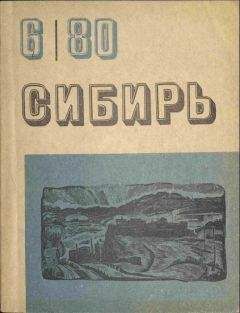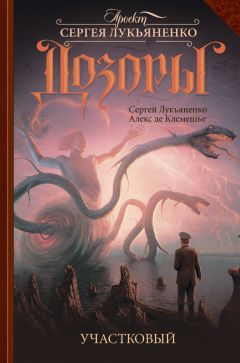Думалось участковому о разной разности – у Колотовкиных потерялся теленок, пятый день нету; Мурзины ждали сына из армии в отпуск, и потому вполне свободно могли настраиваться на варку самогона; в первой бригаде колхоза запропастились две бороны – старых, но ловких для конской запряжки; у Панки Волошиной опять ночевал Ванька-тракторист, парень на двадцатом году, которого родители собирались женить; рыбак дядя Анисим приторговывал на сторону запрещенной к лову стерлядью… Много всякой всячины лезло в голову Анискину, но только теперь участковый признался сам себе в том, что весь этот день с утра и до вечера непрерывно и тяжело, как река обкатывает камень-голыш, ворочал он в своей большой голове простой вопрос: «Уйдет или не уйдет?»
Шел ли Анискин к дому учителя Владимира Викторовича, говорил ли с ним, вспоминал ли прошлое, заваливался ли спать – маячило в мозгу неотступное: «Уйдет или не уйдет?» Но если раньше Анискин об этом не думал открыто, мысль о Генке насильственно гнал от себя, то теперь, под пологом, в прохладности покоя, он подумал о Пальцеве во всю силу. И как только он начал думать об этом, то понял, что и его приход к учителю, и торопливый сон под пологом, и вот теперешнее бессмысленное лежание – все было трусливым уходом от Генки Пальцева.
На последней мысли участковый застрял надолго – вздымал и ворочал ее неотступно, впитывал и отбрасывал, чтобы снова неотступно въесться. Тысячи нитей уходили в прошлое, разили и ласкали, баюкали и будоражили; Анискин то как бы вывертывался наизнанку, то как бы собирался в комочек. Как баран в новые ворота упирался в мысль Анискин и оказывался в хороводе непонятности. «Мать твою перемать!» – наконец выругался он полушепотом и тут только заметил, что покрыт липким потом. Думая о Генке, он, оказывается, ворочался в постели, делал ненужные движения руками и ногами.
– Глафира! – звучно позвал Анискин.
Никто не отозвался, шаги не прозвучали, но в разрезе полога вдруг показалось смугло-цыганское лицо, сверкнули угрюмоватые глаза:
– Но!
– Просыпаюсь – самовар ставь!
– Самовар давно вскипелый.
Глафира исчезла так же бесшумно, как и появилась, и Анискин сердито погрозил ей вслед пальцем. «Вечно все знает!» – подумал он, сбрасывая ноги с кровати и попадая ими в разношенные сандалии.
В доме перекатывалась из комнаты в комнату тишина, обычная, но неприятная для Анискина – по вечной его занятости получалось так, что жизнь семьи проходила для него незаметно, не вокруг него, а на отдаленной параллельности. Хорошо это было или плохо – об этом никто не задумывался, так как участковый Анискин не только для своей семьи, но и для всей деревни жил тайной, непонятной, необычной жизнью. Он был так же загадочен, мало похож на человека, как тот высокочиновный генерал, что все сидит и сидит в своем кабинете.
Сегодня Анискин чаевничал, как всегда, один – блаженство, восторг, удовольствие откровенно читались на его раскрасневшемся лице. Все было так, как обычно, но пил чай участковый не на дворе, а в кухоньке. И зная, что живые сутки мужа крутятся в доме вокруг трех сидений за столом: вокруг завтрака, обеда и ужина, пришла в кухню и села напротив мужа жена Глафира. Спокойно, отдыхающе, тоже с блаженством на лице сидела она. Странно это было, невозможно, но худая, мосластая Глафира чем-то походила на полного мужа – то ли манерой глядеть, то ли прихмуром бровей, то ли мужской складкой на переносице.
– Помидоры кончила полоть? – скосив глаз, спросил Анискин.
– Но.
Потекли длинные уютные минуты – Анискин пил стакан за стаканом, хрустел сахаром, смачно отгрызая зубами кусочки сала и отдувался на обе стороны. Молчала и Глафира, глядя в пол, но ухо, прямая прядь черных волос, загнутый палец босой ноги – все говорило о том, что хорошо, блаженно сидеть ей рядом с мужем.
– Ботинки Федьке купила? – протяжно спросил Анискин.
– Но!
– Это почему же?
– Они почто ему из свиной кожи-то!
Опять постояла особая, принадлежащая только анискинскому дому тишина. Участковый послушал ее, хотел что-то сказать, но раздумал и махнул рукой.
– На той неделе куплю Федьке ботинки! – поняв его, сказала Глафира. – Продавщица Дуська как узнала, что Федьке надо, так заказ на район послала. Ты ее опять прижимаешь?
– А сдачи не дает ребятишкам!… Третьего дня Петьке Сурову три копейки недодала.
– А Дарьиной Люське целый пятак! – подумав, сказала Глафира.
– Пятак? – Анискин поставил стакан на стол, грузно повернулся к жене. – Пятак?
– Но. Она думает, что если я полаилась с Дарьей, то про пятак не узнаю. А Дарья не будь дура – приди и скажи. «Мы, говорит, хоть с тобой и полаились, но пятак ребенку недодавать – это наглость надо иметь!» Дуська-то, поди, знат про это, то и торопится Федьке ботинки раздобыть.
– Я это дело на карандаш! – улыбнулся Анискин и покачал головой. – Ох, уж эта Дуська, Дусенька, Дусек! Куда ей деньги-то?
– Пальто ново справлят! Три-то воротника шалевых привозили, так она один ведь взяла…
– Про то я знаю.
– Что же тогда спрашиваешь, на что деньги? Думаешь, у ней воротник на третий год пойдет лежать?
– И все-то ты знаешь! – внезапно строго сказал Анискин и отвернулся от жены, которая, однако, никак не отреагировала на его изменившийся голос – сидела такая же блаженная и счастливая. Она только еще глубже стала смотреть в пол, ниже нагнула тонкую жилистую шею. Улыбка вдруг пробежала по ее впалым щекам.
– У Федьки-то уж тридцать девятый размер! – сказала она.
– А ты сороковой возьми! – после паузы отозвался Анискин. – Сама, поди, сообразила!
– Но.
И опять в молчании застыла комната. Анискин выпил еще два стакана чаю, потом решительно повернул пустой стакан, пружинисто поднялся. Стол и табуретка заскрипели, заныл под слоновой тяжестью пол, встрепенулась, но снова замерла Глафира, которой не хотелось прерывать блаженные минуты безделья.
– Счас без пятнадцати девять! – сказал Анискин. – Пойду в колхоз – крупные делишки есть. Ты мне спать в сенках постели.
Он вытер полотенцем вспотевшее лицо, бросил полотенце на подоконник и пошел косолапо к дверям. Шел он неторопливо, как ходил всегда, и Глафира тоже не изменила положения – сидела на стуле, низко опустив голову, но, видимо, по звуку шагов поняла, что муж уже подходит к дверям.
– Анискин! – позвала Глафира.
– Но.
– Ты бы, Анискин, взял пистолет-то! – очень тихо сказала Глафира.
Анискин остановился в дверях, медленно, словно собранный на тугих шарнирах, повернулся к жене. Думал он недолго.
– Не возьму! – махнув рукой, сказал участковый. – Я его убивать не собираюсь!
Taken: , 1
Без пятнадцати двенадцать луна высоко висела над деревней, лунные тени укоротились так, что уже не шли за ногами Анискина, луна от желтизны походила на кусочек недорогого янтаря, вправленного в темную ткань звездной расцветки. Прохладной, светлой и легкой вызрела обычная нарымская ночь.
В темени Анискин чувствовал себя превосходно – не болело сердце, не ныли ноги, не схватывало под ложечкой сосущее чувство угасания; здоровым, бодрым, веселым ощущал участковый себя ночью и потому в молодой первозданной свежести воспринимал все, что происходило вокруг. Хорошо светила Анискину луна, пела по-молодому далекая гармошка, как бы к нему тянула лунный зигзаг Обь.
Гармошка пела волнующее: рассказывала, как собирались комсомольцы на гражданскую войну, как пожал он подруге руку и глянул в девичье лицо; про небольшую рану, про мгновенную смерть рассказывала гармошка, и остановился Анискин, так как о его молодости, о нем самом пела гармошка. «Смешной я, но хитрый! – подумал участковый. – Ведь знал, когда Генкин арест обозначить – на ночь!» Помолодел от гармошки, стал даже красивым участковый уполномоченный Анискин!
Генкин дом стоял на окраине. Висел на старой ветле засохший скворечник, в хлеве тревожно помыкивал недавно подкастрированный бычок, сплошным золотом лежала на окнах лунная печать. Двор заполняли тени – отбрасывал их журавль-колодец, маленькие кладовочки и стаечки, чуланчики и подчуланчики. Словно сами по себе, а не от луны жили во дворе дома эти тени, серовато-темные, словно не лунные. Анискин подошел к дому, долгим взглядом посмотрел на него. «Эх, Митрий, Митрий!» – подумал он.
Никто в деревне не знал, почему, но в скворечнике дома Дмитрия Пальцева и его сына Генки никогда не селились скворцы. Взволнованные, нервные птицы прилетали с юга в родные края, в драке и спешке занимали подряд все скворечники в деревне, а вот скворечник пальцевского дома облетали. «Эх, Митрий, Митрий! – опять тоскливо подумал Анискин. – Мильоны людей Советская власть взяла в себя, а ты как был, Митрий, подкулачником, так им и остался!»
Участковый без скрипа открыл плотную высокую калитку, вошел во двор, волоча за собой серовато-черную тень без ног. Тень наискосок прошила двор, вильнула меж чуланчиками и сараюшками, замерла возле большого сарая. В открытые двери охотно и уверенно залезал лунный свет, матово высвечивая внутренность. На этой матовости виделись две зеленые точки и одна белая полоска.