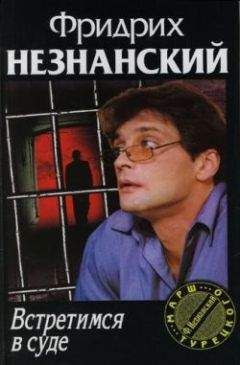Ознакомительная версия.
— Пожалуй, можете, — благосклонно кивнул Роберт, играя роль Хлестакова. — Только с одним условием: больше никого ко мне не пускать!
Когда Юрий Петрович Гордеев возвратился в гостиничный номер, с усилившейся головной болью, но и с полученным наконец-то разрешением на встречу с Баканиным, гостиничный слесарь как раз заканчивал установку двери. Гордееву ничего не потребовалось объяснять.
— Что, Роберт, снова Кафка?
— Нет, — из глубины души выдохнул адвокат Васильев, — жизнь насекомых.
Александрбург, 29 марта 2006 года, 14.30.
Валентин Баканин — Вадим Мускаев
Написав несколько жалоб, осевших на дне необъятных ящиков письменных столов областной прокуратуры, с адвокатом Фадиным Валентин больше не встречался: по всей видимости, следователь Алехин подумал, что и так уже проявил слишком большой либерализм по отношению к тому, из которого всеми правдами и неправдами следовало выжать нужные признания. И их выжимали — безо всяких шуток, выжимали… Валентин чувствовал себя так, словно попал под пресс. «Давилка», — вспоминалось ему страшное название какого-то рассказа, но он не мог припомнить ни содержания, ни автора. Неудивительно: если так пойдет дальше, скоро он не в состоянии будет вспомнить, как его зовут. К избиениям в кабинете следователя он кое-как притерпелся: разгадав, что подручные Алехина опасаются бить так, чтобы убить или довести до больницы, Валентин успокаивал себя, внушая, что это всего лишь боль, которую надо перетерпеть. Не обязательно терпеть, как герои в советских фильмах, самоотверженно стиснув зубы: позволяется и стонать, и кричать, и даже давать волю слезам, которые порой начинали течь без удержу. Но вот соглашаться на то, к чему принуждают побоями, нельзя. Ни за что нельзя. Это, по крайней мере, он помнил. Может статься, это будет последнее, что он забудет…
К лишению сна привыкнуть было труднее. В обыкновение вошло то, что Валентина Баканина ни на минуту не оставляли в покое ни на допросе, ни в камере: теребили, толкали, не давали сомкнуть глаз. Постепенно приучился спать на ходу, как лошадь. Вся жизнь превратилась в какой-то размытый, не приносящий отдыха, а потому раздражающий сон. В какой-то момент ему стало настолько все равно, что, когда его валили на пол для очередного избиения, он отключался и воспринимал боль, словно под наркозом. Как будто это делали с кем-то другим, не с ним… Его преследователям это не понравилось: эффект одного средства добывания признаний сводил на нет эффект другого. Баканина отвели в какую-то пустующую камеру, а может быть, и не камеру, а просто сводчатое, как из средневековья, тусклое помещение с единственной красноватой лампочкой над дверью, где стояла голая кровать — с одной только проволочной сеткой, без матраса, подушек и одеял. На эту громыхнувшую сетку Валентин рухнул и полетел в бездну сновидений, куда его тянуло уже давно. Вероятно, это были лучшие часы в его тюремной эпопее. Во сне он не чувствовал, не осознавал себя, наверно, это-то и было самое лучшее, потому что тюрьма не распространялась на его сны. Сны и мечты — та страна, где каждый свободен…
Ну а потом все понеслось по-прежнему. Постепенно все мысли Валентина переориентировались на то, что происходило с ним в данный момент. Он не думал о свободе. Он не думал о людях, с которыми был связан раньше. Как будто между ним и всем, что было раньше, воздвиглась непрозрачная, непробиваемая для сознания стена.
Поэтому, когда Валентина привели в кабинет, где ждал его человек, лицо которого было Валентину смутно знакомо, он не сразу сообразил, кто перед ним находится… Но нет, не только из-за ослабления памяти это произошло: лицо прежнего знакомого радикально меняла марлевая повязка-«шапочка» на голове. Вот и пришлось гадать, перебирая в уме лица, точно на фотороботе: кто же это?
То же самое можно было отнести к адвокату Юрию Петровичу Гордееву: он не сразу понял, кого к нему привели. Неужели это Валентин Викторович Баканин? Крупный, добродушный блондин, весельчак? Как он мог превратиться в такого… в такое?.. Казалось, единственное, что сближало Баканина прежнего с Баканиным новым, — высокий рост все остальное постигли поразительные различия. Тело опало: исчез не только жирок, но, мерещилось, рассосались и мускулы, оставив выпирающие из-под грязной, поношенной одежды мослы. Неряшливо отрастающая борода клала на щеки тень, придавая им впалость. Волосы теперь белокурыми не назвать — скорее серыми: не то они изменили цвет из-за того, что Баканин долго не мыл голову, не то поседели. Гордеев успокоил себя тем, что времени прошло слишком мало: не успела бы баканинская буйная головушка преобразиться в полностью седую за такой короткий срок… Но как удалось александрбургским «блюстителям законности» за короткий срок сотворить с полным сил и энергии главой концерна «Зевс» это злое чудо?
«Они это запросто, — мысленно ответил на свой же мысленный вопрос Юрий Петрович, потирая сквозь повязку на голове недавнее ранение. — За ними не заржавеет…»
В глазах Баканина мелькнула искра узнавания, и Гордеев обрадовался тому, что, по крайней мере, мозги ему не отбили. На фоне того, как пострадали Юрий Петрович и его помощник Роберт, можно было ожидать самого худшего.
— Валентин Викторович, — мягко, точно к ребенку или больному (а он и выглядел не слишком здоровым), обратился к Баканину адвокат, — вы меня помните? Я Юрий Петрович Гордеев.
— Помню, — слишком безучастно, как бы опасаясь поверить блеснувшей надежде, вымолвил Баканин. — Юрий Петрович. Вы приехали меня забрать в Москву?
— Пока нет, голубчик, — придерживаясь все того же старозаветно-лекарского тона, вынужден был разочаровать его Гордеев, — пока нет. Давайте-ка вы сначала напишете жалобу на имя заместителя генерального прокурора Константина Дмитриевича Меркулова…
— Писал я жалобы, — апатично отозвался Баканин. — Все они не выходили за пределы этих казематов. По крайней мере, я так думаю.
Учитывая собственный опыт, накопленный в Александрбурге, Гордеев не мог не солидаризироваться с данным утверждением. Что еще он в состоянии был сказать измученному человеку? Чем утешить?
— Ну вот, а эта выйдет. Вместе со мной она поедет в Москву. И ляжет на стол к тому, кому адресована. Константина Дмитриевича я знаю много лет, это человек, способный остановить беспредел, который здесь творится…
— Оказывается, кто-то может… — едва шевеля губами, проскрипел Баканин с унылыми старческими интонациями. — Надо бы раньше… остановить…
Но передряги беззакония не настолько подкосили Валентина, чтобы он отказался от попыток восстановить законность. И, частично под диктовку Гордеева, частично на основе баканинских данных, жалоба на имя заместителя генерального прокурора была составлена.
— …Действия милиции содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний», — дописывал Валентин. — Прошу рассмотреть это заявление в установленном законом порядке и провести соответствующую прокурорскую проверку. Кроме того, прошу оказать мне медицинскую помощь и провести освидетельствование. Об ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ мне известно…
В дверь уже колотили, напоминая, что пора заканчивать.
— Вадим Мускаев тоже здесь, — успел шепнуть Баканин прежде, чем его утащили в камеру. — Его тоже надо выручать, Юрий Петрович.
С Мускаевым получилось сложнее. Его «пасли» даже тщательнее, чем Баканина, разрешения на свидание с бухгалтером ни Гордееву, ни Роберту не давали. Поэтому пришлось пойти на хитрость. Единственный выход заключался в том, чтобы Вадим Мускаев написал жалобу у себя в камере…
Тоскливый вечер длился, как обычно, для обитателей этой камеры СИЗО. Точнее сказать, только недавно кончившийся ужин указывал на то, что сейчас именно вечер, а не день, ночь или утро: вечно горящая под потолком лампочка смешивала все времена суток в одно, томящее, болезненное и бесполезное. Чтобы хоть ненадолго отвязаться от этой лампочки, от этой камеры, Вадим Мускаев привык закрывать глаза и представлять лицо жены или спокойный сельский пейзаж, но сейчас отвязаться не получалось: лишившись доступа через глаза, камера настойчиво проникала во внутренний мир Вадима через уши. Кто-то долго, трубно, сосредоточенно сморкался. Кто-то пересказывал историю тягостных взаимоотношений с тещей, то и дело вставляя монотонное: «А она мне… а я ей…» Когда кто-то тронул Вадима за плечо, Вадим едва сгоряча не обругал его. Но ругательство не вырвалось наружу, едва бухгалтер увидел перед собой Фомича.
— Ты, мужик, не спи, — тихо, быстро проговорил Фомич. — Выспаться и ночью успеешь. Вот, смотри-ка чего у меня для тебя есть.
Фомич совал ему шариковую ручку и бумагу. Бухгалтер смотрел на эти привычные для его ремесла предметы так, словно не в состоянии был уловить связь между ними.
Ознакомительная версия.