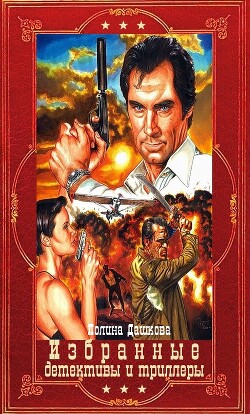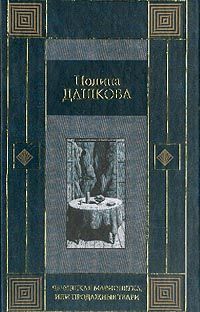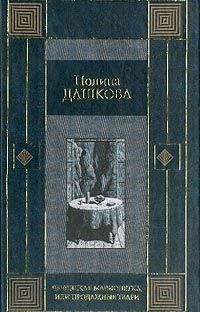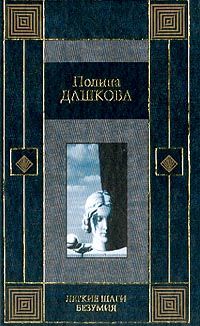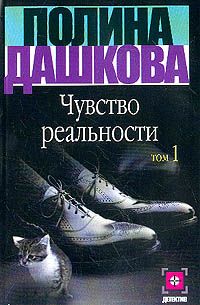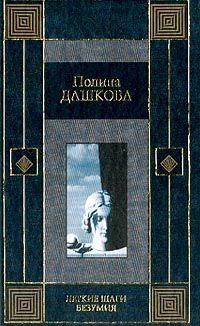Соня убрала телефон в карман куртки и посмотрела на Зубова.
— Извините. Как только я нашла аптеку, начались телефонные звонки, все прямо как с цепи сорвались. Нам уже пора? Это мне сок?
— Да. Можете взять с собой. Давайте я повезу ваш чемодан.
Они поднялись на платформу, вошли в вагон.
— Это что, электричка такая? — спросила Соня. — Туалет? Даже три туалета на один вагон? И курить можно?
— Не везде. Только в этом вагоне.
— Ого! Розетка для компьютера и столик!
В первом классе были купе с мягкими креслами на шесть человек, но никто к ним так и не сел. Когда поезд тронулся, Соня выпила свой сок, закурила, вытащила ноутбук из портфеля.
— Сейчас, только отвечу одному человеку и буду смотреть в окно.
Зубов сидел напротив. Он открыл тонкую книжку в дешёвом глянцевом переплёте. Он взял её с собой из Москвы, но всё никак не мог начать читать. Книжка называлась «На передовой невидимого фронта». Мемуары бывшего сослуживца, того самого, который когда-то настрочил на Зубова докладную.
На внутренней стороне обложки было выведено шариковой ручкой, аккуратным почерком:
«Ивану, дорогому другу и коллеге, на добрую память. Автор».
Соня минут пятнадцать читала свою почту, отвечала. Потом встала и вышла. Компьютер остался включённым.
Зубов развернул его к себе. Её не было минут десять. Он успел прочитать все входящие и исходящие письма за последнюю неделю. Когда она вернулась, компьютер стоял на месте, а рядом, на столике, небольшой бумажный пакет, перевязанный лентой.
— Ого! Здесь ещё и подарки разносят? — спросила Соня.
— Да. Иногда случается.
— Это мне?
— Конечно.
— А вам тоже принесли?
— Софья Дмитриевна, пожалуйста, разверните, посмотрите.
— Вы уверены, что можно? А вдруг они перепутали купе?
— Уверен. Открывайте. Это именно вам. Никто ничего не перепутал, — он тяжело вздохнул, отвернулся, уставился в окно.
Она развязала ленточки и тихо охнула.
— Иван Анатольевич, вы с ума сошли! Сто семьдесят евро! Тот самый! Вы не представляете, как я о нём мечтала в детстве, он даже снился мне, именно такой, маленький, бежевый, встрёпанный, с разными глазами. Но я бы никогда, ни за что себе не позволила. Слушайте, давайте я вам деньги верну? У меня есть. Мне ваш курьер вручила тысячу евро.
— Софья Дмитриевна, вот эту последнюю глупость я даже комментировать не хочу. Лучше бы просто спасибо сказали.
Глава девятнадцатая
Москва, 1917
— Павел, перестань, этот абсурд не может длиться бесконечно. Тебе прежде всего надо поесть и выспаться.
Голос профессора звучал удивительно бодро. Агапкин застыл в прихожей. На вешалке висели шинель и фуражка.
Первым его желанием было уйти сию минуту, не видеть их рядом. Полковника с ребёнком на руках, Таню, счастливую, невероятно красивую. Он знал, как она хорошеет от счастья. Глаза становились спокойными, глубокими, на щеках проступал нежный румянец. Она улыбалась едва заметно, просто так, самой себе. Смотреть на неё бывало больно, как на яркий свет из темноты.
— Не надо было вести никаких переговоров, — донёсся низкий, охрипший баритон полковника, — у нас была возможность, но все ждали, не хотели крови. Мы не хотели, а им чем больше её, тем лучше. Как можно вести переговоры с теми, кто палит по Кремлю из тяжёлых орудий? Но дело не в них. В нас. Мы им Россию бросили под ноги, мы её проворонили, проболтали, нам прощения нет и не будет.
Заплакал Миша.
— Павел, не надо, пожалуйста, — сказала Таня, — он пока не понимает, но чувствует.
— Да, Танечка, все. Прости меня, старого дурака. Мишенька, ты не бойся, я не такой нервный и мрачный, вот видишь, я умею шевелить бровями, по очереди, правой и левой. Ещё могу язык свернуть в трубочку.
Плач затих. Андрюша вдруг весело рассмеялся и крикнул:
— Смотрите, он улыбается! Павел Николаевич, он вам улыбается, правда.
— Не выдумывай, он слишком маленький, это просто случайная гримаса, — сказала Таня, — и вообще, ему пора кушать.
— Нет, действительно улыбается, — возразил Данилов, — мне лично. Миша, может, ты что-нибудь скажешь? Ну скажи: папа.
— Сейчас стишок прочитает и сыграет на рояле «Собачий вальс». Да он мокрый насквозь! Павел, ты что, не чувствуешь, он совершенно мокрый?
— Но не плачет!
— И улыбается!
— Мишенька, маленький, что там тебе ангелы шепчут? Ты хочешь сказать, ещё не всё потеряно? У нас остались шансы? Слушайте, а в кого у него такие огромные уши?
— В тебя, конечно. Что ты делаешь? Не снимай с него чепчик! Холодно. Все, дай мне ребёнка!
— Танечка, подожди, разве я лопоухий?
— Дай мне ребёнка и посмотри в зеркало.
— Да, правда. Надо же, я раньше не замечал.
— Павел Николаевич, я воды согрела, вы хотели мыться.
Федор попятился назад, к двери, вышел и бесшумно прикрыл её за собой, стал быстро спускаться вниз. В вестибюле у лифта столкнулся с пожилой дамой из квартиры на третьем этаже.
— Федор Фёдорович, здравствуйте, ужас какой творится! У нас вся прислуга сбежала, я ходила узнать, что с отоплением, бесполезно, никто ничего не знает, дворник хамит, пьян, а ведь мусульманин, им Коран запрещает пить. Погодите, тут письмо для Михаила Владимировича, бросили в наш ящик, я как раз шла к вам, отдать, — она протянула толстый конверт.
Письмо было из Ялты, от Натальи Владимировны и Оси. Его давно ждали.
— Благодарю вас, я передам. Потом. Сейчас спешу, — он сунул конверт за пазуху.
— Федор Фёдорович, вы здоровы? У вас такой странный вид, — слегка испуганно пробормотала дама.
— Здоров, здоров, спешу, простите, — он быстро вышел на улицу.
У подъезда стоял знакомый автомобиль. Шофёр шагнул навстречу и тихо спросил:
— Дисипль, в чём дело, куда вы? Что с вами?
— Вернулся полковник. Я должен сообщить.
— Я сообщу. Помогите мне донести пакеты.
— Нет. Ни за что! Я не могу, не хочу туда возвращаться!
— Да в чём дело? Вы пьяны? — шофёр быстро обнюхал его, по-собачьи шевеля ноздрями. — Нет. Не похоже. Неужели кокаин?
— Перестаньте. Я трезв и не употреблял наркотиков. Мне очень плохо. Это личное. Объяснять вам не буду.
— Да не объясняйте, пожалуйста, я и так знаю. Вы же сами сказали — полковник вернулся. Я бы на вашем месте давно нашёл бы себе какую-нибудь весёлую курсисточку. Ладно, все, успокойтесь. Пойдёмте наверх, я без вас не дотащу, а вам всё равно придётся возвращаться, никуда не денетесь, так что терпите, Дисипль. Страдания облагораживают душу и тренируют волю.
— Да. Хорошо, я готов. Но вы войдёте со мной, сами все скажете, иначе получится, будто я уже сотрудничаю, тогда я лишусь доверия, уважения, тогда всё напрасно, всё кончено, — он шептал быстро, с одышкой, и старался не смотреть в насмешливые голубые глаза шофёра.
— Прекратите истерику. Сядьте! — шофёр открыл дверцу и силой усадил Федора на переднее пассажирское сиденье. — Можете молиться, медитировать, считать слонов. У вас три минуты, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Либо мне придётся доложить, что вы невменяемы и ненадёжны.
Шофёр отвернулся и закурил. Он стоял, прислонившись к дверце. Чёрная кожаная куртка была перетянута портупеей. Федор не мог оторвать взгляда от кобуры. Достаточно протянуть руку, чтобы вытащить револьвер. Шофёр, конечно, заметит, но не сразу поймёт, что происходит. Подумает, что Дисипль сошёл сума и собирается его убить. Вряд ли он сумеет разгадать истинные намерения Дисипля. Таким образом, будет довольно времени, чтобы поднести дуло к своему пульсирующему адской болью виску и нажать спусковой крючок. Мгновение — и всё кончено. Ни боли, ни любви, ни страха, ни унижения. Ничего. Пустота.
«Знаю, что грех. Но с меня довольно».
Он готов был сделать последнее, быстрое движение, он решился окончательно и бесповоротно, он счёл это единственным выходом, но рука не слушалась, не двигалась. Тело свело страшной судорогой, голова разрывалась от боли, он перестал соображать что-либо, провалился в свистящую ледяную мглу, только успел подумать: все уже произошло, он себя убил, но ничего не почувствовал, даже выстрела не услышал.