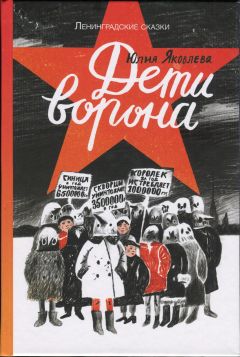Ознакомительная версия.
– Слушай, надо человека одного дождаться, – сказала она вместо приветствия и протянула бумажный квадратик: контрамарка.
– Ну, и ты здравствуй, – сказал Зайцев. – Сколько у вас тут балетоманов пасется, – заметил он. Это был далеко не первый раз, когда надо было «дождаться одного человека».
– Это же не мы. Это артисты приглашают. Я только передаю.
– Вы так театр разорите.
– Ты не понимаешь, это интеллигентные люди. Им балет – как…
– Я как раз понимаю. Я алкоголиков каждый день вижу.
Алла не успела ответить. Радостно взмахнула рукой кому-то за его спиной. Зайцев обернулся: им навстречу спешил опрятный толстячок.
– Алексей Александрович! – воскликнула Алла.
– Аллочка, здравствуйте, – он поцеловал ей руку, окинул Зайцева добродушными глазками. – А это ваш друг? Тот самый, который в школе работает?
Зайцев вскинул на нее удивленный взгляд. Алла покраснела до ушей.
– Да.
– Очень приятно, – он разглядывал Зайцева с любопытством старой свахи.
– Мне тоже, – пожал ему руку Зайцев.
– Вы ведь историю преподаете, насколько я помню? – не унимался толстяк.
– Все верно, – не моргнув глазом подтвердил Зайцев. – А вы?
Толстячок улыбнулся:
– Я работаю в музее.
– А вам просили передать… – наконец сумела встрять Алла и протянула контрамарку. В этот момент мимо них проносился очередной оркестрант. Рука толстячка нырнула за добычей так поспешно, футляр чиркнул по нему так сильно, что толстячок потерял равновесие и обрушился бы, не успей он схватить Зайцева за рукав пальто. Рванул, повисая всем телом, – и из кармана Зайцева вместе с рукой выпорхнули фотографии.
– Ах, прошу прощения!
Мысленно матерясь, Зайцев быстро присел, стал собирать снимки. Но проклятый интеллигентный толстячок еще быстрее ринулся на помощь. В руках у него оказалась фотография женщин из церкви. Взгляд уже изучал изображение.
Сейчас он испугается. Обомлеет. Побледнеет. Скривит рот.
Но ничего такого не произошло.
Взгляд голубых глаз был так же спокоен. Розоватый высокий лоб и мягкие щеки все так же излучают добродушие.
– Это кто-то из ваших школьников пытался с «Благовещения» снять репродукцию? – невинным тоном поинтересовался Алексей Александрович.
Зайцев возблагодарил небеса за скверное качество печати: толстяк не заметил ничего подозрительного. Трупы женщин походили на неумело выписанные фигуры живых. Зайцев кивнул. Забрал снимок. И произнес быстрее, чем успел понять и мог бы объяснить, зачем это делает:
– Ага. Оно самое. Только из головы вылетело, кто художник.
– Ван Эйк, – спокойно ответил толстячок. – Это «Благовещение» ван Эйка.
– Верно, верно.
– Наше, эрмитажное, – удовлетворенно добавил Алексей Александрович. – Молодец ученик ваш: не умеет, но, видно, любит, старается. Не все получилось, но старался, старался. Это самое главное. Сколько ему или ей лет? Вы в каких классах преподаете?
У Аллы опять заалели уши.
– Алексей Александрович, вы на спектакль опаздываете! – напомнила она. И схватила Зайцева под руку, потянула прочь. Зайцев от души ей посочувствовал. Но помогать не стал. Толстячок уже толкал вертушку.
– А можно на картину эту посмотреть? – быстро сообразил он.
– Да ради бога! Искусство принадлежит, так сказать, народу.
Алла, как паровоз, тянула его прочь.
– И мальчика приводите! – крикнул Алексей Александрович. – Я вам пропуск на служебном входе оставлю.
Алла, не оборачиваясь, выскочила наружу. И, отпустив руку Зайцева, почти оттолкнув, быстро пошла к трамвайной остановке. Он постоял несколько мгновений, потом побежал следом.
– Да не беги ты так!
Он попытался поймать ее за руку.
– Алла, перестань.
На них смотрели люди, толпившиеся на остановке. Алла смутилась, замедлила шаг. Зайцев пошел рядом.
– Брось. Даже смешно получилось, по-моему. Учитель истории. Я не против.
– Прости.
– Да я же не обиделся! Ну же!
В глубине души он как раз обиделся. Вот так, значит, Алла их видела: немного стыдно, что твой приятель – мильтон. Мильтон в глазах знакомых Аллы, людей ее круга был все равно что солдат или пожарный: в подруги ему годилась кухарка, нянька, прачка. Даром что революция перевернула все с ног на голову. Не всем и не всех. Алла в новом советском обществе была всего лишь театральной портнихой. Но чувствовала себя все-таки барышней, которая встроилась в новое общество, как могла, не слишком поступаясь принципами. Как бы вне общества. Потому что театр хоть и звался государственным, а все равно был для горожан Мариинским. Его и не называли иначе как Мариинкой. И те же самые балетоманы или почти те же, что дивились императорской приме Карсавиной, теперь отдыхали от советской действительности, любуясь на па Улановой. Да и «Пиковая дама» была «Пиковой дамой» – не важно, при советском ли строе или при царе.
Алла остановилась. За оградой в темноте нежно голубел Никола Морской. Свет уличных фонарей не достигал асфальта.
– Извини, – опять повторила она.
– Совершенно не стоит извиняться.
А что еще он, Зайцев, мог ей сказать?
– Просто не хочу, чтобы они воображали, будто ты… Потому что ты не такой.
– А я просто не хочу, чтобы ты из-за этого огорчалась, – примирительно сказал Зайцев. – Это пустяки.
Она недоверчиво посмотрела на него.
– Уверен. Назови хоть горшком, хоть учителем истории, как мудро замечает поговорка. Серьезно. Мне все равно.
Она немного подумала: верить или не верить? Вздохнула.
– Хорошо. Идем.
Он замялся.
– Что же?
– Ты знаешь… я, пожалуй, сегодня лучше к себе.
Он не сказал «мы» и «ко мне». Алла чуть сжала губы. Она заметила разницу.
– Ты же не…
– Просто длинный день сегодня. Ты лучше скажи, в каких хоть я классах преподаю? А то завремся. Давай держаться официальной версии.
Алла чуть улыбнулась.
– Ты что, серьезно собрался к Алексею Александровичу в гости?
– Почему нет?
– А что это за рисунок? Тот. Кто его сделал? – вдруг вспомнила она.
– Да Нефедов наш, представляешь? – на ходу выкрутился Зайцев.
– Нефедов?
– Сам насобачился. Самородок из толщи народа, можно сказать.
«Так и живем, – подумал он. – Она врет, я тоже вру».
Алла покачала головой. Она явно поверила.
– В средних классах, – ответила она.
Из-за поворота показался трамвай.
– Твой номер, – заметил Зайцев, глянув на три цветных огня у трамвая во лбу.
Они поцеловались на прощание.
Возможно, она не до конца поверила ему, что он не обиделся. А, все равно, думал Зайцев, шагая по темной пустой набережной Мойки. Только горящие окна домов размечали путь. Плескалась чернильная вода. Ван Эйк! Значит, все-таки картина существует! И если существует эта, то и все остальные тоже. Прибавляет ли это знание что-нибудь к его расследованию или нет, а если да, то что, – этого Зайцев пока не мог сказать. Он лишь чувствовал, что след, казавшийся совсем остывшим, опять налился теплом. Опять звал за собой. И все, что к этому не относилось, просто выпадало из умственного взора. В такие моменты требовалось быть одному.
Ладонь, которой он прижимал лист бумаги, ломило от холода. Оконное стекло, казалось, было вырезано изо льда. Ветер изредка бухал воздушным кулаком в окно. Снег летел то вверх, то куда-то в сторону, то наискосок, то снова вверх; казалось, сыпало отовсюду: с неба, с земли, из стен. Впрочем, ни земли, ни неба, ни Фонтанки, ни зданий не было – все смешалось, провалилось, завертелось в серовато-белой мгле. Февраль в Ленинграде – испытание жестокое.
Зайцев сличил фотографию и переснятый рисунок. Схема преступления в чистом виде. Но сидящая женщина с гвоздикой узнавалась вполне.
Он больше не хотел рисковать.
Глянув мельком и в тусклом свете на театральной проходной Алексей Александрович еще мог принять криминологический снимок за фотографию неумелой ученической картины. Но вряд ли он повторит эту ошибку, рассматривая фотографии не спеша при свете дня. Один раз повезло. И спасибо.
Осталось позвонить Розановой: «натравить комсомольцев», как это называл Крачкин. Зайцев снял трубку. И повесил. Он вдруг осознал, что никто не заметит его отсутствия. А заметит, так что? Уволят за прогул? Так он и не собирается прогуливать. Идет опрашивать эксперта по делу об убийстве гражданки Карасевой, «женщины с гвоздикой»: на нее тоже всем наплевать.
Серафимова, Самойлова, Крачкина, да и Коптельцева тоже Зайцев теперь видел только мельком – в коридорах, на лестницах. Формально он еще числился в бригаде. Даже и в столовой сидели рядом, словно изображая перед остальными одно абсолютно счастливое семейство. Но в присутствии Зайцева все теперь говорили только о ерунде: кино, оперетте, бабах. И никогда о том, о чем говорили раньше всегда: о делах. О деле.
Куда же завело их расследование, гадал Зайцев. На него было брошено немыслимое количество людей, машин. Оно разрасталось. Ветвилось. Но куда? Судить он мог только по их хмурым физиономиям – и делал вывод, что дело шло тяжело.
Ознакомительная версия.