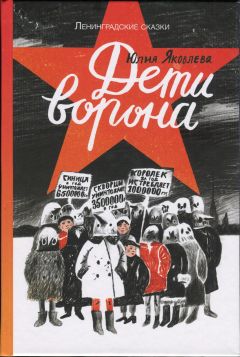Ознакомительная версия.
– Товарищ, идемте, – позвала его Люсенька. Нефедов с тем же туповатым видом потопал за ней.
Зайцев рывком вскочил на кровати. Прислушался. Тихо. Только на полу лежит сероватый прямоугольник света – от уличного фонаря.
Цок. Опять ударило в стекло.
Зайцев выдернул из-под подушки пистолет. Тихо подошел к окну сбоку. Осторожно глянул. Нефедов стоял в свете фонаря, задрав голову, и не думал прятаться.
Зайцев махнул ему рукой: поднимайся.
Убрал пистолет. Быстро надел брюки. Тихо прошел по коридору. Стараясь не щелкнуть замком, отпер и приоткрыл дверь. Он не слышал шагов ни на лестнице, ни на площадке. Только вдруг в щель просунулась рука – и Нефедов вошел.
– Здорово, – беззвучно произнес он одними губами. Посмотрел на пистолет. – Вы сегодня добренький.
В комнате Зайцев зажег керосиновую лампу.
– Что это? Медведь тебя по дороге задрал, что ли?
На плече у Нефедова была здоровенная прореха.
Нефедов пожал плечом с прорехой.
– Труба водосточная.
Зайцев не знал, что сказать. Ладно. Труба так труба.
– Тебя что, по ошибке в музее на ночь заперли? – насмешливо поинтересовался он.
Нефедов не поддержал шутливый тон. Он вынул из кармана и бросил на стол бумажку. Зайцев узнал состряпанный им запрос.
– Гнида бумажечку прихватила. Хотела бучу погнать, – объяснил Нефедов. – В Смольный трезвонить начала. Пришлось ждать, пока стемнеет.
В апреле в Ленинграде темнело уже нехотя. За взятой в заложники бумагой Нефедову пришлось лезть через окно глубокой ночью.
– Елки зеленые, Нефедов, – не сдержал удивления Зайцев. Мельком глянул на будильник: поспать ему удалось всего ничего. – Дитя цирковой арены. Так ты и ко мне бы влезал тогда уж запросто, по-товарищески. Чего камнями кидать? Еще не хватало, чтобы стекло кокнул.
– У вас дерево далековато, – буркнул Нефедов. – До окна, думаю, не перепрыгнуть.
– А, то есть ты об этом думал. Ну хорошо.
Теперь уже Зайцев не понимал, шутит Нефедов или всерьез.
Тот вдруг сел без приглашения. Положил руки на стол. Под пиджаком обозначилась тощая мальчишеская спина. Интересно, а лет-то ему сколько – впервые задался вопросом Зайцев. Решил потом справиться в личном деле. А вслух сказал:
– Голодный?
Нефедов поднял на него глаза. Удивление. Нефедов был явно тронут.
– Чего вылупился? – Зайцев смутился своего порыва: отцовские инстинкты в нем проснулись никак? Вот еще не хватало.
– Валяй, рассказывай с начала, пока я какие-нибудь жиры и углеводы соображу.
Он помнил, что в ящике был хлеб. Сахар вроде тоже был.
– Имя-то у гниды есть?
– Простак.
– Чего?
– Фамилия у него такая.
– Партийный псевдоним наверняка, – предположил Зайцев. – Вроде Демьяна Бедного. А сам Тютькин какой-нибудь или Канцелленбоген. Ладно, ты с начала давай: пришел ты в Эрмитаж – и?..
Но в Эрмитаж Нефедов не пришел, а влез.
– Как это, Нефедов?
– Через окошко. Смотрю – кошаки туда так и прыскают. Ну я прикинул: раз кошаки, то там явно склад. А раз склад, то сам посмотрю.
– Ты даешь, Нефедов, – Зайцев поставил на стол крупно нарезанный хлеб. – Не советские у тебя методы какие-то, если хочешь знать. Не комсомольские тем более.
– Да советскими методами спугнуть их только. Пока мы другой раз заявимся, они уже следы заметут.
Зайцев вспомнил сбежавшего Алексея Александровича.
– Я смотрю, Нефедов, у тебя против интеллигентных людей: ученых, музейных работников – предубеждений не имеется, – только и сказал он. – Ты жуликами считаешь всех. Обдумай мою мысль, пока я чайник нам вскипячу.
Зайцев вышел с чайником в темный коридор. Остановился. «Осторожно, – напомнил он себе. – Осторожно».
Нефедов сидел все в той же позе, когда он вошел с горячим чайником. На большой палец были ручками продеты две чашки.
Зайцев сыпанул чай. Нефедов жадно смотрел, как льется горячая струя. Даже жевать перестал.
– Так и что жулики? – с напускной беззаботностью напомнил Зайцев.
– А. Так вот. Нет наших картин на складе Эрмитажа.
– Не наших, а народных, – поправил его Зайцев. – Только с чего ты так уверен? Ты что, склад по ящичку перебрал?
– Нет, – передвинув хлеб за щеку, просто ответил Нефедов. – У них там все в конторских тетрадях отмечено. Картиночки на складе были. Да только теперь переведены они на баланс общества под названием…
– «Антиквариат», – ответил Зайцев.
Нефедов уставился на него:
– Верно. «Антиквариат». А вы?..
Зайцев бросил на стол толстый коричневый конверт.
– Это что? – Нефедов вернул недоеденный хлеб на тарелку, протянул руку.
– Это пришло сегодня с почтой.
Нефедов изучил надпись чернилами: адрес угрозыска, имя Зайцева выведено полностью. Перевернул: больше ничего. Анонимно.
– Вот-вот. Судя по штампу, отправлено из Ленинграда же, с Главпочтамта. А в конвертике этом письмецо. Подробнейшее описание схемы, по которой картины немалой ценности переводятся из Государственного Эрмитажа в общество «Антиквариат», представитель по Ленинграду товарищ…
– Простак, – вставил свое Нефедов. – Это к нему я с ордером ходил. После Эрмитажа. То есть сначала в Эрмитаже поворошил. А с бумажкой уже пошел туда, в «Антиквариат». Только какое нам дело? Ну переводят, ну картины.
– Верно, Нефедов. Сам пока не знаю. Но чую, есть нам дело.
Зайцев вдруг вспомнил: Фаина Баранова.
– Соседку Барановой помнишь? Заботкина. Она показала, что подруга ее Баранова обожала аукционы. Вот только название вспомнить не могла. То ли «Аполлон», то ли «Антиквариат». Именно там она купила фигурки пастушков. А мы знаем, что одна из этих фигурок потом вынырнула ровнехонько на месте преступления на Елагином острове.
След, который казался давно остывшим, вдруг стал наливаться теплом. Но все еще не понятно было, куда он вел.
Зайцев взял стоявшую в углу трубу: свернутая таблица за ненадобностью успела подернуться пылью. Он развернул ее на столе, прижимая углы и края тарелками, чашками, лампой. Множество слепых прямоугольников со вписанными фамилиями. А теперь первый из них ожил. За ним последуют еще и еще. Проступит логика. Он жадно глядел на них.
Где-то за стеной у соседей захрипели часы. Послышался удар, другой, третий. Зайцев одумался. Три часа ночи.
Посмотрел на Нефедова.
– Вот что, Нефедов. Я тебе матрас на полу разложу: у меня переночуешь, а с утра, до начала рабочего дня своего, дуй прямо на Главпочтамт с конвертом этим – и порасспроси там нежно: может, вспомнят они, кто бандерольку отправил. Не каждый день через них с уголовным розыском граждане переписываются.
Зайцев взял будильник, прикинул время и, подавив зевок, перевел стрелки на два часа раньше.
– О, Вася, наконец-то. По черным мешкам на твоей физиономии я вижу, что твоя личная жизнь устроилась наилучшим образом, – поприветствовал его Крачкин. Из подобных шуточек теперь их общение только и состояло. Крачкин положил ему на стол папки.
Зайцев подождал, пока он выйдет. Придвинул к себе телефон. Рука замерла на трубке. Не опасно ли звонить прямо отсюда?
Он положил перед собой лист. Фамилии. Названия. Стрелки. Спать сегодня действительно не получилось. Истина маячила где-то совсем близко. И Зайцев чувствовал, что его гонит вперед тот же инстинкт, что гонит кошку за мышью, за бантиком на нитке, за мухой. Он просто не мог усидеть на месте.
Спал ли Нефедов или притворялся, что спит на своем матрасе, Зайцева не волновало. Остаток ночи он просидел в желтоватом круге, отбрасываемом лампой, изучая документы из коричневого конверта. А потом на полу вдруг затрещал ненужный будильник. И Зайцев понял, что ночь прошла.
Списки, составленные от руки. Машинописные копии официальных документов, с печатями и подписями. Доказательств против товарища Простака было более чем достаточно. Общество «Антиквариат» неутомимо изымало из Государственного Эрмитажа картины, мебель, фарфор, монеты. Но если мебель, фарфор, монеты, допускал Зайцев, еще могли найти покупателей вроде Фаины Барановой, то кому бы сдалось почти трехметровое полотно, он не понимал в упор. А и сдалось, то куда бы советский гражданин его потом попер – в заводской барак? В коммуналку? Допустим, что-то могли покупать учреждения – в вестибюль там или в зал заседаний. Но, черт возьми, не «Благовещение» же.
– Религия – опиум для народа, – согласился Нефедов, быстро хлебая утренний чай.
– Это да. Но я тебе скажу: Простак этот, похоже, самый обычный барыга – только в совершенно новом обличье. Толкает краденое. Которое сам же крадет и кражу свою выдает за исполнение служебных обязанностей.
Но как во все это вписывались убитые? Что могла купить, допустим, артельщица и нянька Рохимайнен? А ученик-ремесленник Тракторов? А чернокожий коммунист Ньютон? А музработник в ансамбле народных инструментов Фокин? Они все были для этих вещей слишком мелкой сошкой.
Ознакомительная версия.