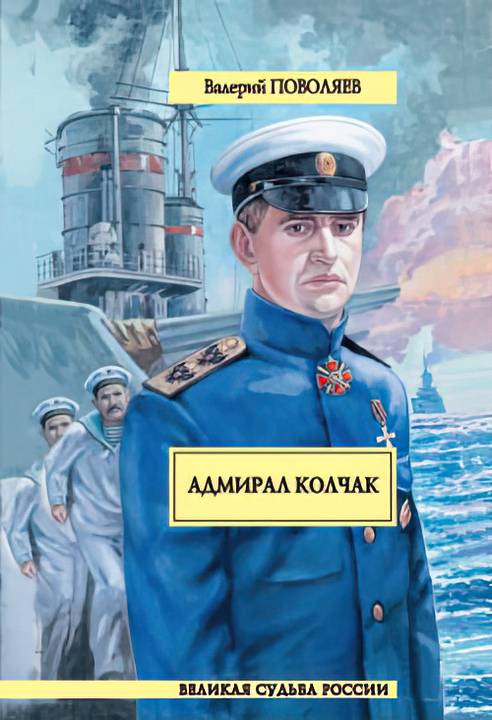в себя, Сметанин это отметил и согласно кивнул:
– Собирай грибы!
Раиса поднялась, застонала и, оскользаясь на ледовых проплешинах, медленно побрела в лес собирать подмерзшие, стеклянно ломающиеся в руках опята и рыжики. Сметанин задумчиво смотрел ей в след. Был он спокоен и холоден. Увидев, что Раиса скрылась в сосняке, он достал из кармана нож. Попробовал пальцем лезвие. Лезвие было тупое. Тогда он отщелкнул вилку, уперся ею в ладонь и нажал. Ощутив боль, поморщился – вилка была острой.
Минут через двадцать вернулась Раиса, неся в руках десятка полтора мороженых опят. Жалко улыбнулась, показывая добычу:
– Вот, нашла на пне.
– Кидай в варево! – распорядился Сметанин.
Раиса обдула каждый гриб, повыковыривала из шляпок мусор, соскребла щепочкой грязь, а потом разом высыпала добычу в жестянку, сдула в сторону пар, прыснувший ей в лицо.
Подобрав на земле чистую орешину с длинным черенком, помешала варево, нагнулась. С шеи сползли спутанные волосы, обнажили нежную кожу, которую не смогли огрубить скитания по тайге, за короткими завитками обнажились аккуратные розовые уши с темными золотыми сережками, вдетыми в мочки.
– Ты простил меня? – всхлипнув, спросила Раиса, не поднимая головы.
– Конечно, простил. Как я могу тебя не простить?
– На меня что-то нашло!
– Со мной такое тоже бывает.
– Не ругай меня, пожалуйста, Игорь!
– Не буду.
Втянув в себя воздух, Сметанин задержал в груди дыхание, достал из кармана нож с отщелкнутой вилкой и почти без размаха всадил его в шею, туда, где выемка завершалась небольшим, едва приметным бугорком позвонка.
Раиса молча, словно бы ожидала этого удара, ткнулась головой в костер, сбила с рогульки жестянку с плавающими в ней грибами, подпалила себе волосы и плашмя легла на снег рядом с огнем. Снег под ней начал медленно набухать кровью. Сметанин посмотрел на свои пальцы – они тоже были красными, в крови. Раиса, широко открыв глаза, смотрела на него, рот ее судорожно перекосился, на губах вспухла розовая слюна, поплыла вниз, под подбородок.
Обнажилась шея. Сметанин стремительным движением отщелкнул лезвие и так же стремительно, хищно нагнувшись, несколько раз провел лезвием по шее, отделяя Раисе голову от тела, словно молодой ярке – яровой овце, обреченной во всяком хозяйстве на заклание.
Прошло две недели. Первый снег, покрывший землю хрупким одеялом, вопреки ожиданиям, не сошел, хотя первый снег почти никогда не удерживается на земле, обваривает холодом зеленый покров земли, разные мелкие кустики, растения, умертвляет их, рождает черную гниль и подает команду птицам – торопитесь, мол, и они, погрустневшие, уже давно готовящиеся к отлету, но пока не решившиеся улететь, поднимаются в воздух, чтобы с высоты попрощаться с землей, приютившей их.
Вообще-то прощание с родными краями птицы, как и люди, всегда откладывают на потом, тянут до последнего, а когда уже становится совсем невмоготу, собираются в стаи и с горькими криками – кто знает, может быть, и не удастся никогда вернуться на эту землю, делают последний облет и отбывают в теплые земли.
Птицы, остающиеся на зимовку, начинают готовиться к долгим холодам, к ветрам и снегам, к голоду – запоминают, где что есть, где что можно склюнуть, где можно укрыться, где иная белка прячет орехи и грибы, – когда подопрет, не грех будет и своровать, где гнездуются, устраиваясь на зиму, лисы и волки, – в общем, работа эта основательная, от нее и жизнь птичья зависит, и смерть птичья…
Звери следуют птичьим повадкам, ведут себя точно так же.
Шайдуков взял ружье, надел лыжи и отправился в тайгу – самая пора завалить двух-трех глухарей, либо несколько тетеревов, запаса этого хватит до рождественских холодов, если до этого срока Ленка каких-нибудь гостей не пригласит. Лучше мяса, чем тетеревиное, да рябчиковое, в тайге, известно, нет.
По дороге думал обо всем кроме политики – политику и войну Шайдуков не уважал: политику за то, что не его это дело, а войну – за кровь, боль и то, что войны очень уж больно вышелушивают народы, – если не будешь думать, вспоминать что-то, всякая дорога, особенно, если двигатель – свои двои, покажется вчетверо, впятеро длиннее; думал о Ленке и о том, почему у них, здоровых и ладных, еще молодых, до сих пор нет детей, о Хомыре, который, так и не поймав Сметанина, объявил: «Преступники улетели на Большую землю, дело передано во всесоюзный розыск», – и действительно дело передал, даже бровью не повел, о самом Сметанине, который, по мнению Шайдукова, никуда не улетел, а остался здесь, застрял в тайге.
Вот только где он застрял – вопрос, этого Шайдуков понять никак не мог И вычислить, в какой берлоге залег сейчас летун, тоже не мог. Может, отыскал уютное зимовье и решил остаться в нем на зиму? Но это – безумие: ни продуктов, ни топлива у Сметанина не хватит, хотя топлива в тайге полным-полно, но без топора и пилы его не возьмешь. Остаться – значит, обречь себя, а Сметанин не из тех людей, которые способны сами на себе поставить точку…
И все-таки Сметанин находился в тайге, может быть, даже где-то неподалеку.
Шайдуков на ходу угрюмо сжимал рот, на случай встречи с летуном он с собою даже взял пистолет. Мало ли чего – охота охотой, а служба службой.
В сырых местах кое-где чернел лед, снег с него сдувало ветром, как со стекла, не за что было зацепиться, но и сугробов с шапками-теремами в тайге тоже еще не было – рано, хотя все грязные места уже были обихожены, прикрыты, тайга сделалась чище, прибраннее, но что-то робкое, цыплячье обнаруживалось в ней, очень уж смирное и непохожее на нее, – видать, сама природа готовилась к каким-то потрясениям; взгорбки также чернели сурово, камни полусъеденными зубами высовывались из снега, мрачно поглядывали на раннего охотника.
Выкатившись из распадка, Шайдуков понизу обошел большую сосновую куртину, поднялся на небольшой хребет, отделяющий один распадок от другого, и остановился. На самом хребте, в середине лысого обдува, ковырялись два тетерева, он и она, выклевывали из земли кремешки и жадно глотали их.
Тетерева запасались камнями на зиму. Плотно набивали ими свои пупки, потому что в лютую стужу камней, скрытых под толстым слоем снега, им уже не