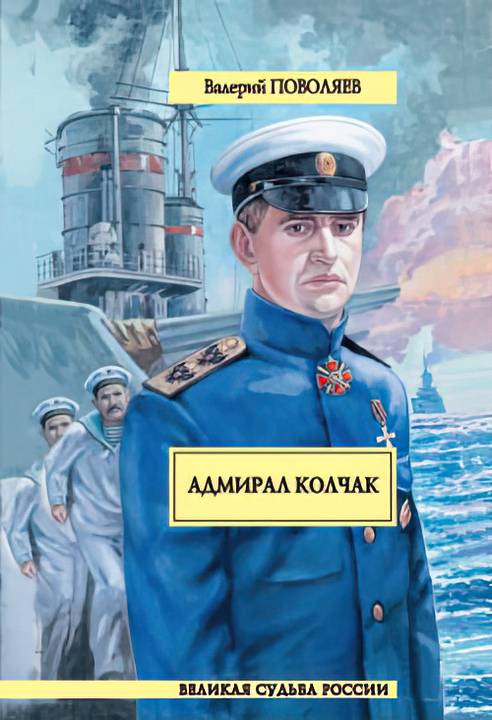не сходит ли он с ума? И эти провалы в памяти, сонное безразличие к тому, что происходит, голод, бесцельное топтание в тайге… Хотя и велик запас прочности в человеке, голод все-таки лишил их с Раисой последних сил.
Что-то заставило его оглянуться, он даже не понял, что именно, но у всякого неопределенного желания почти всегда бывает материальная основа – наверное, острый недобрый взгляд обладает материальной силой, и токи благородного металла – «драгметалла», камней – на севере, у малых народов камни вообще-то делятся на добрые и недобрые, на сейдов и куйвов; все камни, все булыжины, валяющиеся на дороге, – живые, все имеют душу, могут толкнуть в спину, это может сделать даже замысловатая коряжка, лежащая на дороге или весело улыбающийся расщепленным ртом сосновый сук с двумя смолистыми подтеками вместо глаз, – в общем, Сметанин, с трудом одолевая боль в шее и собственное раздражение, обернулся.
К нему на четвереньках, в какой-то настороженно-опасной позе подбиралась Раиса. Лицо ее было бледным, потным, неподвижным, – не лицо, а маска с такими же неподвижными темными глазами, в которых застыло одно выражение – голода… А может быть, и не было ничего – Сметанину, который впервые видел такую Раису, было не до разбирательств… В руке Раиса сжимала нож. Его собственный нож, фирменный, которым он колол ленков.
– Ты чего? – холодея от неподвижного взгляда, шепотом спросил Сметанин. – Сбрендила, что ли?
Раиса не ответила, она боком, переставив одну ногу и одну руку, переместилась по земле, хрустящий звонкий снег даже не скрипнул, не пискнул под ней, хотя под Сметаниным издавал такой звук, что на зубах возникал нервный чес, потом переместила другую ногу и другую руку и еще на метр с лишним передвинулась к Сметанину. Ранящей колючести снега, холода она не чувствовала.
– Ты чего? – спросил Сметанин вторично, отодвинулся от Раисы – сделал это так же боком, как и Раиса, только в другой последовательности. – Что произошло?
Он понял, что произошло, когда Раиса была совсем близко, – Сметанин отступал медленнее, чем наступала она; Сметанин вскрикнул, пугая этим резким вскриком и себя, и Раису, и пружинисто отпрыгнул в сторону. Раиса метнулась следом, и тогда Сметанин, собравшись, разом подавив в себе слабость и голодную боль, нанес Раисе сразу два удара – один высокий, ногой в грудь, второй, такой же высокий, рукой по голове.
Голова Раисы подбито мотнулась в сторону, из рассеченной губы выбрызнула жиденькая кровь, протекла на подбородок, руку, в которой Раиса держала нож, он также разбил вкровь, но ножа из пальцев не выбил.
Поняв, что проигрывает, Сметанин отпрыгнул назад, но на ногах не удержался, будто сзади его кто-то подбил под колени, завалился на спину и постарался как можно быстрее откатиться от Раисы. Слаб он все таки был, хвор, несколько резких движений заставили так заколотиться его сердце, что оно у него чуть не выпрыгнуло из горла.
Но и Раиса также была слаба, в ней тоже не осталось ни проворства, ни силы, ее тело, молодой организм ее желал сейчас только одного – еды. Еды, еды! Движения Раисы стали слабыми, вялыми, чужими, один глаз у нее слезился, из него текла мутноватая влага, словно в глазном яблоке лопнул перекрученный напряжением сосуд и из дырки текло, текло, текло, другой глаз был сухим. Это была Раиса и не Раиса одновременно.
Сметанину сделалось страшно.
– Раиса, это ты? – сипло проговорил он.
Она опять подобралась к нему, взмахнула ножом, пробила лезвием воздух, Сметанин сдвинулся вбок, согнулся и снова ударил ее ногой по руке, в которой был зажат нож.
– Ах-ха! – Нож он не выбил, но Раисе сделал больно, по ее лицу пробежала судорога, трезвея, она отшатнулась от Сметанина, слезы полились и из второго, сухого, глаза – и там лопнул сосуд, Раиса закусила чистыми крупными зубами половину нижней губы и коротко, затравленно взвыла:
– Есть хочу!
Он понял, что Раиса сейчас видит в нем только одно – еду, ходячий кусок мяса, который можно сварить и съесть, можно даже вообще не варить, съесть сырым, без соли, без хлеба. Вон как вышло!
Из глаз Раисы продолжали течь слезы, в горле что-то дыряво сипело, полоскалось влажно, чмокало, она бесполезно размахивала ножом, – ей бы изменить тактику, зажаться, выждать момент и тогда, может быть, что-нибудь и вышло бы, но Раиса не понимала, как построить свою тактику, и снова боком, боком надвигалась на Сметанина, привставала и взмахивала ножом, потом снова опускалась на четвереньки.
Не выдержав, Сметанин изловчился, прыгнул на Раису, вывернул руку с ножом, ударил коротко и сильно, и тот с хрустом по самый черенок вошел в снег.
– Дура! – почти безголосо закричал он, швырнул Раису на землю, та безвольно приложилась всем телом о мерзлую твердь, откатилась от Сметанина на несколько метров и закрыла руками лицо. – Дура! Дура! – Сметанин выдернул из снега нож и сложил его двумя пальцами. – Разве ты смогла бы зарезать им меня? Им не только меня – им курицу не зарежешь, он складывается пополам. – Сметанин не понимал, что говорил, он не должен был этого говорить, но остановиться он не мог. – Дура, дура, дур-ра! – в нем словно бы что-то закоротило, тупая иголка обрабатывала только одну, замкнутую полоску пластинки. – Дура, дура!
Раиса оторвала руки от лица.
– Прости меня! – произнесла она отрезвевшим шепотом. Шепот был едва слышен – это был шелест падающего с дерева листа, но Сметанин все-таки услышал его, осекся, взгляд его сделался осмысленным, он сложил ножик и опустил себе в карман.
– Меня проще было зарезать зеркальцем от пудреницы, по сонной артерии чик – и все дела, – он потыкал пальцем в изголовье шеи. – Вот сюда чик – и меня нет!
Голос Сметанина сделался тусклым, бесцветным.
Раиса плакала.
Сметанин набрал в жестянку снега, развел небольшой костер, поставил убогую посудину на огонь. Повернулся к спутнице.
– Выгребай из карманов все, что у тебя есть!
– Все?
– Только съестное.
– Ничего у меня нет!
– Может быть, какие-нибудь крошки, хлебный мусор, еще что-нибудь? – он вяло пощелкал пальцами. – Все, что можно есть. Мы сейчас с тобой сварим суп, поедим горячего.
– Может быть, наберем мороженых грибов? – спросила она обрадованно, трезво – видать, окончательно пришла