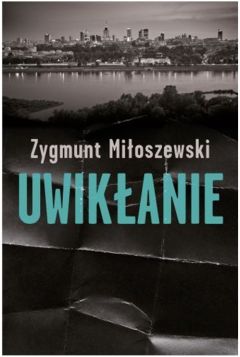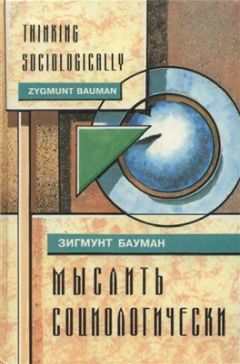— Минуточку, сейчас выясню, — сказала сотрудница детского сада и отложила трубку.
Шацкий подумал, что та наверняка отправилась за полицейским: сама боялась сообщить. Кто-то взял трубку.
— Привет, Тео, — услышал прокурор мужской голос, и ему тут же захотелось завыть. Слезы ручьем текли по лицу. — Конрад Хойнацкий, Прага-Север. Мы работали вместе где-то год назад по делу скупщика лома, помнишь?
— Курва, да ты просто мне скажи, — прохрипел Шацкий.
— Что я тебе должен сказать?
— Правду, курва, что еще… — начал он рыдать прямо в трубку. Он не мог выдавить из себя уже ни слова больше, желая, наконец-то услышать страшное сообщение.
— Боже, Тео, да что с тобой? Погоди, сейчас дам тебе жену.
Жену, какую еще жену? О чем он говорит? Шацкий услышал какие-то перешептывания.
— Пан Шацкий? — тот же самый женский голос, что и раньше. — Хели нет, мама забрала ее полчаса назад.
Он ничего из всего этого не мог понять.
— А молния? — спросил он, все еще рыдая.
— Ах, ну да, ужасная история. Конрад мне рассказывал. Божечки, как подумаю, что это могло случиться в нашем детском саду, что могла погибнуть мама нашего ребенка… Рыдать хочется… Такая трагедия. Но даю вам Конрада.
Шацкий отключился. Ему не хотелось беседовать сейчас со старым приятелем, который появился в самом худшем месте, в самое неподходящее время. Он опустил голову на руль и плакал, что было сил, только теперь от облегчения. Зазвонил телефон.
— Ну, привет, ты чего так звонишь и звонишь? Что-то случилось? Мы были в магазине, не слышала звонка.
Шацкий сделал глубокий вдох. Ему хотелось во всем признаться, но вместо того он соврал:
— Знаешь, иногда я занимаюсь такими делами, о которых не могу сказать даже тебе.
— Такая у нас работа. Меня бы тоже уволили за сообщения тебе о некоторых процессах.
— К сожалению, сегодня я должен остаться допоздна, и объяснить тебе не слишком-то могу.
— До какого времени?
— Не знаю. Буду в Национальном совете по судопроизводству. Если смогу, вышлю тебе эсэмэску.
— Что тут поделаешь, вот Хеля опечалится. Только поешь что-нибудь нормальное, не кола с батончиком… А то вырастет у тебя пузо, а мне не нравятся типы с барабанами спереди. Договорились?
Шацкий пообещал, что съест салат, сообщил, что любит, и что на выходные возместит Хельке сегодняшнее отсутствие. После чего запустил двигатель и влился в поток машин, направляющихся в сторону Жолибожа.
Крупноблочный дом на Хомичувке был громадным и отвратительным на вид — как и все крупноблочные дома на Хомичувке — а вот квартирка была очень даже ничего, хотя и низкая. И удивительно большой как на одного человека. Метров как бы не шестьдесят. Шацкий держал в руке стакан белого вина со льдом и позволял себя вести. Забитый книгами салон с допотопным телевизором и огромным, мягким диваном в главной роли; в двух комнатах поменьше Моника устроила спальню и гардероб-свалку. Было видно, что эта съемная квартира, меблировка кухни, шкафы и полки говорили каждому: привет, нас изготовили семидесятые годы, когда еще не было Икеи». Прихожая была обита — а как же еще — сосновыми панелями.
И повсюду были фотографии. Приклеенные, закрепленные кнопками, висящие в фоторамках. Почтовые открытки, снимки, сделанные в поездках, снимки каких-то мероприятий, газетные вырезки. Но большинство — все же частные. Моника — совсем еще малыш с надувным слоном; Моника на верблюде; Моника спит на полу с чьими-то (своими?) трусами на голове; Моника на лыжах, Моника на море, обнаженная Моника читает книжку на траве. Был и тот самый снимок, который она присылала — в белом платье на морском берегу. Шацкий глядел, какая она молодая и свежая и молодая на этих фотографиях, так что почувствовал себя ужасно старым. Словно дядюшка в гостях у племянницы. Вот что он здесь делает?
Раньше, еще в автомобиле, он снял пиджак, расстегнул рубашку и подвернул рукава. Но рядом с Моникой — босой, в джинсовых шортах и футболке с репродукцией «Полуночников» Хоппера — он все равно выглядел госслужащим. Эта мысль заставила его усмехнуться. Ведь он и был госслужащим, так на кого ему было походить?
— Я тут думала, не снять ли половину всех этих снимков, когда узнала, что ты приедешь. Даже уже начала, потом махнула рукой и отправилась в магазин. Тебе макароны со шпинатом нравятся?
— А что?
— Что ни говори, время обеденное, так я подумала, что перед кофе стоило бы что-то перекусить.
Девушка была ужасно зажата. В глаза ему не смотрела, голос ломался, кусочки льда в стакане грохотали. И все время она ходила вокруг, чуть ли не подскакивала. Сейчас же побежала в кухню.
— А зачем ты хотела снять эти снимки? — крикнул Шацкий ей вслед.
— На некоторых из них я паршиво выгляжу. Или слишком худая, или слишком толстая, или веду себя как дитя, ну или еще чего-то не так. Ты же сам видишь.
— Вижу классную девчонку в тысяче воплощений. Ну вот тут, правда, прическа ужасная. Ты не слишком молода для афро?
Моника прибежала.
— Ну вот. По крайней мере, эту следовало снять.
И снова убежала в кухню. Шацкому хотелось ее поцеловать, но он предпочел бы, чтобы это возникло само, как вчера. Чтобы все случилось само. А кроме того, он ведь приехал сообщить, что это конец. Он вздохнул. Лучшше, когда это уже произойдет. Он направился в кухню. Моника вынула из кастрюли макаронину и попробовала.
— Еще минутку. Можешь вытащить тарелки из шкафчика над холодильником?
Шацкий отставил стакан на столешницу и взял две глубокие тарелки с голубой полоской по краю, как в общепите. Кухня — пускай и длинная — была ужасно узкой. Шацкий с тарелками в руках обернулся, и впервые за этот вечер они поглядели друг другу в глаза. Моника тут же отвела взгляд, но в это мгновение она показалась мне красивой. Он подумал, что ему хоть раз хотелось бы проснуться рядом с ней.
Устыженный, он забрал стакан и отправился в салон, чтобы покопаться на полке с книжками. Вся эта ситуация показалась ему смешной. Ну вот что он делает? Несколько лет назад договорился на кофе с миловидной девушкой, и вместо того чтобы попросту трахнуть ее, забыть и заняться женой — как делают это все остальные — он глядит ей в глаза и мечтает о совместном завтраке. Невозможно поверить!
При мысли о Веронике и Хеле Шацкий почувствовал укол печали. Чувство вины? Не обязательно. Скорее — печали. Все в его жизни уже произошло. Никогда уже не будет он молодым, никогда не влюбится любовью двадцатилетнего пацана, никогда не влюбится, не считаясь с чем-либо другим. Столько эмоций всегда будут вторичными. Что бы ни произошло, навсегда он останется типом — пока что среднего возраста, а потом все старше — после всяческих переживаний, с бывшей женой и бывшей дочкой, с изъяном, заметным для всякой женщины. Какая-то из них, возможно, и захочет его по расчету — ведь он все еще ничего выглядит, потому что худощавый, потому что имеет постоянную работу, и потому что с ним можно поговорить. Быть может, и он сам на какую-то из них согласится, ведь, в конце концов, вдвоем живется лнгче, чем одному. Но вот сойдет ли кто-то по его причине с ума? В этом он сомневался. Сойдет с ума сам? Шацкий только лишь горько усмехнулся, ему хотелось плакать. Его возраст, его жена, его дочка — сейчас все это вдруг показалось ему приговором, неизлечимой болезнью. Диабетик не может есть птифуры, гипертоник не может скакать по горам, Теодор Шацкий не может влюбиться.
Моника подкралась сзади и закрыла ему глаза своими ладонями.
— Грошик за твои мысли, — шепнула она.
В ответ он лишь покачал головой.
Девушка прильнула к его спине.
— Все это ужасно несправедливо, — произнес он наконец.
— Эй, только без преувеличений, — заявила Моника с деланной веселостью.
— Тут нечто большее, чем ничего.
— Меня это «нечто» не интересует.
— А больше не всегда удается. Бывает, что и никогда.
— Ты пришел, чтобы сказать это мне?
Какое-то время он колебался. Как всегда, хотелось соврать. С каких это пор это удается с такой легкостью?
— Да. И дело здесь не только в… — снизил он голос.
— В твоей семье?
— Да. Случилось еще кое-что, подробностей я рассказать тебе не могу, я увяз в мрачной афере, и мне не хочется запутывать во все это еще и тебя.
Моника сжалась, но гостя не отпустила.
— Ты меня дурой считаешь? Почему бы тебе не сказать правду, что влюбил меня в себя ради забавы, что все это было ошибкой, а теперь необходимо заняться женой? Зачем ложь? Сейчас ты скажешь, что работаешь на правительство.
— В каком-то смысле это правда, — усмехнулся Шацкий. — И клянусь, что не вру. Боюсь, что тобой смогут воспользоваться, чтобы ударить в меня. Если же речь идет о влюбленности — поверь мне, все совершенно не так.
Моника еще крепче прижалась к нему.