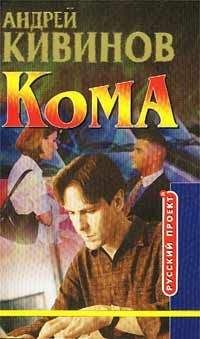И теперь, когда первая волна эмоций схлынула, он призадумался. Может, права Светка? Конечно, он в глазах Марины герой, но дальше-то что? Она будет ждать его десять лет? Вряд ли…
Переживания из-за той детской лагерной истории, когда он струсил и дал ложные показания? И опять Светка права — кто б не струсил? Что ж теперь, до конца дней страдать?
Но и по-другому он сейчас поступить не мог… Самое обидное, он так и не поговорил с Мариной…
— Распишись! — Веселов придвинул Сергею лист с авторучкой.
— Слушай, Гарик! У вас тут Наумова должна сидеть. Марина Наумова.
— Есть такая. В восьмой камере. А что — та самая?
— В смысле «та самая»? — не понял Елагин.
— Ну… — смутился Игорь. — Из-за которой ты там кого-то завалил…
— Оперативно у нас сплетни распространяются. Быстрее Интернета.
— А то… Только сплетни у нас по-другому называются. Служебная информация.
Дежурный выбрался из-за стола и подошел к Елагину.
— Извини… формальность!
Тот послушно поднял руки. Веселов быстрыми привычными движениями обыскал его одежду, вывернув при этом карманы и тщательно прощупав манжеты и отвороты брюк. Затем молча указал глазами на ноги. Сергей снял обувь и встал на лежавшую тут же на полу газету.
— Отдельное жилье предоставить не могу, — извиняющимся тоном продолжал дежурный, один за другим беря в руки ботинки и внимательно их осматривая. — Рад бы, но пустых камер нет. Так что с попутчиком устрою. Но ты не волнуйся! Он только с виду грозный, а на самом деле спокойный мужик. Спит себе целый день…
— А за что приземлили?
— Да, можно сказать, за грубые ошибки в работе. Торговал валютой с рук возле обменника, ну и иногда загибал пару бумажек. По ситуации, в зависимости от клиента. Ручищи у него здоровые, хрен уследишь… А позавчера с объектом промашка вышла: обул жену начальника городского ОБЭПа. На триста долларов. Тут, понятно, весь аппарат на ноги подняли… Между прочим, он в девятой камере, рядом с твоей… с Наумовой, я имею в виду.
— Гарик, а нельзя с ней переговорить? Хоть минуту, а?
— Нет, — категорично покачал тот головой. — Ты порядок не хуже меня знаешь.
— Да ты камеру не открывай, я через дверь… — взмолился Елагин. — Мне ей важную вещь сказать надо.
— Серега, даже не проси! Дружба — дружбой, а служба — службой. В наших камерах, как ты понимаешь, не только жулики сидят, так что информация — или сплетни, если тебе понятнее, — о вашем разговоре мигом просочится в Интернет… А оно мне надо? Всё! Обувайся, бери шмотки — и пошли.
Елагин поднял лежавший на лавке возле стола матрац с серым одеялом и двинулся следом за Веселовым.
— Да, и чтоб потом без обид, — продолжал наставлять тот, переваривая комплекс вины. — Переговариваться и перестукиваться запрещено. Вынужден буду принять меры.
— А петь можно? — спросил Сергей.
— Петь? — Веселов задумался. — Насчет пения в приказах ничего не сказано. Только, знаешь, здесь обстановка к пению не слишком располагает. Ну вот и твои апартаменты…
Игорь отпер дверь камеры.
— Прошу! С почином!
Елагин шагнул внутрь. Камера была самой обычной: серые бетонные стены, небольшое зарешеченное оконце высоко под потолком, приделанный к стене стол, две койки по бокам и параша в углу. Почти как в пассажирском купе. С той лишь разницей, что здесь ты не знаешь, как долго будешь ехать и какой будет станция назначения…
— Да, Серега! — окликнул его Веселов. — С обедом ты чуть-чуть опоздал. За пять минут до твоего прихода посуду отнесли. Так что терпи до ужина. Если хочешь, у меня бутерброды с сыром есть. Принести?
— Нет, спасибо. Аппетита нет.
— А его тут по первости ни у кого нет. Но на второй день приходит. Ладно, давай!
Дежурный ободряюще кивнул и запер дверь.
Сергей бросил матрац с одеялом на свободную койку и сам сел на нее, прислонившись спиной к стене. И… запел.
Покроется небо
Пылинками звезд,
И выгнутся ветви упруго,
Тебя я услышу за тысячу верст,
Мы — эхо, мы — эхо,
Мы — долгое эхо друг друга…
Елагин безбожно фальшивил. Но его голос с каждой новой строкой звучал все веселей и громче. И наглей. Переговариваться и перестукиваться запрещено? Да и хрен с вами! Насчет пения в инструкции ничего не сказано — стало быть, петь не запрещено!
И даже в краю
наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы — память, мы — память,
Мы — звездная память друг друга.
Сначала Марина подумала, что ей послышалось. Съежившись в комок на узкой койке, она укрылась с головой колючим одеялом, пытаясь спрятаться от ужаса, который терзал ее последнее время, и в который уже раз за последние сутки попыталась забыться. Но песня продолжала звучать, причем все громче. А главное — голос…
Не может быть!
Марина резко поднялась и сорвала с головы одеяло. Сомнений быть не могло. Это был его голос. Родной уже голос. Значит, он здесь. Он — рядом! И ужас, сковывавший сердце, отступил.
Она прижала ухо к стене.
Елагин умолк и в ту же секунду ощутил удивительное душевное спокойствие. Даже подъем. Такое чувство, наверное, овладевает моряками, прошедшими Аденский залив, не нарвавшись на сомалийских пиратов. Да — опасный путь еще не закончен, но самое трудное и страшное уже позади.
Сергею снова захотелось петь. Но в это время расписанная татуировкой фигура на соседней койке зашевелилась, и к нему повернулась заспанная физиономия. Сосед посмотрел на Сергея с улыбкой:
— Ну ты, кореш, выдал! Я у Билана такой песни не слыхал. Клёвая… А из Пугачевой чё-нибудь могёшь?
— Кто это у тебя там концерты закатывает? — поинтересовался у Веселова его помощник, входя в дежурку.
— Елагин. Задержали, козлы, все-таки…
— Знаю. Встретил ребят, которые его привозили. А почему поет?
— Ну здрасте! — Игорь недовольно посмотрел на коллегу. — Перестукиваться ведь запрещено…
Топор мягко, с приятным хрустом, вошел в лобную кость. Второй перерубил шею в районе кадыка. Но человек продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало, держа в руках табличку «Я буду жаловаться». Потому что был нарисован на деревянной стене, напротив которой стоял обнаженный по пояс командир отряда Кленов. Все в отряде знали, что у Николаича есть испытанное средство для успокоения нервов. Топоры, вилы, ножи и прочий инвентарь, пригодный к смертоносному полету.
Когда в ладонь легла ручка саперной лопатки, а нарисованный на стене мужик задрожал от страха, на полигоне появился взволнованный художник-взрывотехник Репин.
— Николаич! Тебя уже все обыскались… Бухаров ни по мобилке, ни в кабинет дозвониться не может.
— Чего у него опять стряслось? — невозмутимым голосом спросил Кленов, прицеливаясь лопаткой в мужикову промежность. — Ингуши угнали яхту Абрамовича?
— Хуже. Серегу Елагина закрыли. В ИВС.[5]
Лопатка замерла в воздухе. Мужик на стене перевел дух и снова заулыбался.
— Шутишь?
— Да какие шутки?! Короче, тут такое дело. Те ингуши, которых мы позавчера брали, сдали старшего Паленова. Бухарик его тут же подтянул и тоже расколол. Оказалось, этот гад по указке Журова попросил напарницу Маринки позвонить Сереге. Та ему наврала, что Марина его по-прежнему любит, что жить без него не может и все такое… А на следующий день Журов и Краснов Маринку в камеру упрятали. За что — не знаю, но факт. И Сереге — ультиматум: хочешь, чтобы на свободу вышла, — пиши признанку. Вот он и пошел на плаху с чистым сердцем…
Иван Николаевич слушал Репина, не перебивая, отрешенно глядя на мужика с табличкой.
— Всё?
— Да вроде…
— Тя-я-я!!!
Лопатка молнией сверкнула в воздухе, рассекла воздух и врезалась в гениталии мишени. Правда, черенком. Но и этого хватило, чтобы улыбка сошла на лице последней на нет.
— Успокоишь тут с вами нервы… Где Бухаров?
— У себя должен быть…
Тюремщик Веселов, гремя тяжелыми ключами, отпер восьмую камеру и, не заходя внутрь, громко приказал:
— Наумова, на выход! К следователю.
Марина стряхнула с себя мучительное забытье, торопливо выскользнула из-под одеяла и вышла в коридор.
— Не кисни, — прошептал дежурный и, повернувшись в сторону соседней камеры, громко добавил: — Тебя вроде под подписку выпускают…
* * *
Перед входом в следственный отдел следственного комитета при прокуратуре города Юрьевска молодая цыганка гадала по руке на судьбу. Постовой прогонял ее, но цыганка возвращалась — место было золотым. В конце концов, она заплатила постовому, и тот перестал обращать на нее внимание.
Светлана Петровна Воронова вышла из здания, остановилась рядом с цыганкой и с тревогой посмотрела на тяжелое, затянутое серыми тучами небо. Дождь был бы очень некстати из-за двух причин: сделанной только вчера укладки и забытого дома зонтика. Можно было бы попросить дежурного, чтобы дал машину, но с полчаса назад водитель куда-то умотал, и неизвестно было, когда вернется.