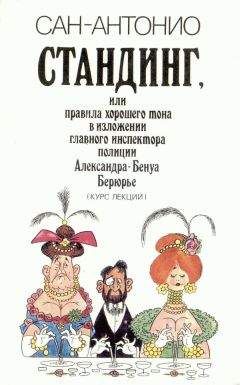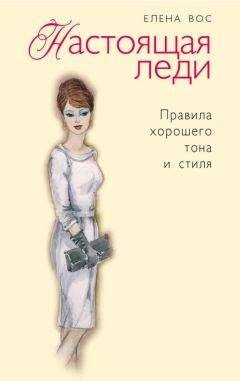— Господин директор, — решительно говорю я, — нужно отменить завтрашний визит, Он пожимает плечами.
— Вы думаете, что я уже не пытался это сделать! Но уже слишком поздно. В министерстве внутренних дел мне настоятельно указали на то, что президент Рамирес очень хотел приехать сюда. Его программа была расписана по минутам. Изменить ничего невозможно, иначе это вызвало бы скандал другого рода.
Он стучит ладонью по письменному столу.
— Ну, и потом, вы представляете, что значит сказать президенту: «Не входите. Ваше Превосходительство, вас ожидает бомба?» Нет, нет, надо во что бы то ни стало выбраться из этого тупика.
И тогда одна идея, с большой "И", такой же большой, как Вандомская колонна, выстреливает мне в черепок. Я наклоняюсь над столом и импульсивно хватаю руку моего визави.
— Господин директор, раз поиски ничего не дали, остается одно единственное средство!
Он быстро водружает на место очки и смотрит на меня.
— Какое?
— Послушайте, — говорю я. — Давайте рассмотрим это дело в хронологическом порядке. Мы не проявляли достаточно серьезного интереса к датам, и это была ошибка, потому что даты о многом говорят. Кастеллини загремел в лестничный проем накануне прибытия Канто (мнимого).
— Точно, — вздрагивает он.
— Просто потому, что наши противники знали, что он знал настоящего Канто. До того, как «устроить» свое покушение, они навели справки, т.е. операция была тщательно и детально подготовлена. Однако им не было известно, что еще один из ваших слушателей тоже знал настоящего Канто.
— Бардан?
— Да, Бардан. Два дня спустя после приезда «новенького» Бардан в автобусе обнаруживает подставку. У вас в школе двести слушателей, и нужно определенное время для того, чтобы они перезнакомились… Сосед Бардана в автобусе кричит: «Ба, это новенький, Авель Канто». Бардан настораживается. Авель Канто — такую фамилию не часто встретишь, а раз встретив, крепко запомнишь. Он хочет уточнить: «Авель Канто из Бордо?» Ему дают утвердительный ответ. Тогда он начинает по-быстрому соображать. Он же сыщик, Бардан. Он вспоминает Либурн, настоящего Авеля Канто… и Кастеллини. Кастеллини его приятель. И до него внезапно доходит вся правда. Он догадывается, что Кастеллини был убит из-за того, что он знал Канто. Только из-за этого!
А он тоже знал Канто. То, что он узнает в автобусе, имеет для него решающее значение. Он выскакивает из автобуса и возвращается в школу. Для чего? Чтобы предупредить вас. Где вы были в тот день, господин директор, когда умер Бардан?
— У меня было совещание с парижскими коллегами.
— Следовательно, не имея возможности попасть к вам на прием, он решил пойти к себе и дождаться, когда вы освободитесь. И его там убили! Какой я кретин, что заподозрил Ганса Бюргера в этих убийствах. Он единственный человек, который не мог их совершить, потому что его не было здесь, когда умер Кастеллини, он находился в автобусе, когда Бардан был отравлен.
— Вывод, — прерывает меня директор, — убийца по-прежнему среди нас?
— Да. Именно это может все спасти.
— Как?
— Соучастник мнимого Канто знает, что произойдет и как это произойдет.
— Вполне вероятно.
— Тогда, господин директор, выслушайте меня внимательно. Завтра, во время приема, вы должны сделать так, чтобы весь штат школы был на этом приеме, все: преподаватели, слушатели и технический персонал. И вы их попросите всех участвовать в осмотре школы, чтобы оказать честь вашему гостю.
Биг Босс встает.
— Браво! Понял! Потрясающе! — говорит он. — Вы думаете, что соучастник захочет смыться, чтобы самому не взорваться?
— Ну, а как же, поставьте себя на его место, это же логично? И в этот момент я его и сцапаю. Я предупрежу вас, вы под любим предлогом должны будете изменить маршрут, как только наш парень проявит намерение улизнуть. И у меня останется несколько минут, чтобы заставить расколоться этого молодца. Положитесь на меня, с помощью моего доблестного Берюрье, я ручаюсь, что он заговорит.
Едва я объявляю о своем решении, как в дверь кабинета кто-то стучит. Это Берю. Берю, но какой. С искаженным лицом, сконфуженный, изнеможенный и расстроенный до глубины своих костей. Берю, потерпевший полное поражение и банкротство. Берю, который потерял в себя веру! Берю, который пожирает себя! Берю, который распадается на части и обращается в жидкость, наконец.
— Чем могут служить, дорогой Берюрье?
Толстый подходит. Серый. Его всего трясет.
— Рапорт о моей отставке, господин директор.
— Вашей отставке!
— Да. Сан-А вам рассказал?
— Нет, балда, я ничего не рассказывал, у нас есть более важные дела, чем твоя мнимая графиня.
И, обращаясь к директору:
— Во время лекции моего младшего товарища произошел небольшой инцидент. Он пригласил псевдографиню на «практическую» часть лекции, но вышеупомянутая персона оказалась просто-напросто бывшей содержательницей борделя.
Директор сдерживает улыбку. Но Берю протестует.
— А ты знаешь, что она на самом деле графиня? "Она мне объяснила, когда успокоилась, что она вышла замуж за одного разорившегося графа. И ты знаешь, кто этот граф? Фелиций, та мумия, которая служит у нее лакеем! Она откопала его в столовой Армии спасения, где он подавал суп бездомным бродягам, чтобы заработать на свой. В общем, она вышла замуж за титул. Она призналась мне, что разыграла меня, потому что я главный инспектор. Это могло ей послужить прикрытием, ты понимаешь?
Бедняга Берю. Он всегда готов восхищаться! Как это жестокое разочарование истерзало его душу и оскорбило его честь!
— Но, в общем, ты все равно заимел графиню на своем личном счету, успокаиваю я его.
Но он не так уж глуп.
— Графиня в шкуре проститутки, шлюха! Очень здорово. Спасибо! Хорошо еще, что она не наградила меня прозаической болезнью.
— И вы считаете, что этот инцидент может служить оправданием вашей отставки? — спрашивает отходчивый директор.
— Да, — решительно отвечает Берюрье. — Я перестаю быть преподавателем хороших манер. Как я могу учить этих типусов, которые мне дали кличку Кавалер из Дурдома?
Это, конечно, невозможно.
Мы соглашаемся с этим, и директор принимает отставку очень уважаемого, но очень кратковременного преподавателя правил хорошего тона. Все утро следующего дня Толстый и я с большой тщательностью осматривали все помещения. Но как я не выворачивал мозги наизнанку, мне так и не удалось найти предполагаемую бомбу.
— Ты думаешь, что он успел ее заложить? — не выдержав спрашивает Его Истерзанное Высочество жалобным голосом выздоравливающего больного.
— Вспомни, что услышал Матиас на той вилле, где его держали в заключении. «Во всяком случае, — сказала блондинка, — присутствие Канто уже не обязательно, потому что все уже подготовлено». Что, неужели не ясно!
Он соглашается.
Мы находимся в зале стрелковой подготовки. Он садится на скамью.
— Послушай, Сан-А, я о чем-то думаю…
— Тогда ты не зря сел, надо соразмерять свои усилия.
— О, кончай издеваться, — ворчит Обесчещенный. — Вы говорите бомба! Ладно… Но как она взорвется? Как они могли до секунды рассчитать, что президент Рамира Рамирес окажется в той или иной комнате?
Я подскакиваю. С ума сойти, как такой тип, как Берю, может ясно мыслить! Он много не рассуждает, а идет прямиком — нормальным логическим путем.
— Ты совершенно прав, вундеркинд, надо, чтобы кто-нибудь подорвал ее в нужный момент! О, ты самый настоящий Моцарт в Дедукции!
— Ты понимаешь, — вздыхает он, — я думаю, что, в конечном итоге, я хороший сыщик, но плохой препод.
— Ты не так уж плохо читал свои лекции, Козленок! Мужики из этого выпуска еще долго будут помнить об этих пяти днях лекций по правилам хорошего тона.
— Ты думаешь? — с надеждой в голосе спрашивает Воспламенившийся.
— Да, — отвечаю я со спокойной душой и чистой совестью, — я думаю. Ты с ними говорил нормальным языком и дал им много хороших советов, Толстый. Потому что ты разумный и простой человек.
От этих слов Берю воскрешается. Правда, которую он чувствует в моем голосе, равносильна для него искусственному дыханию. Он на глазах становится прежним Берю.
— Это так, — говорит он. — Я научил их самому главному — жить как честный человек и не слишком ломать себе голову. О, я бы еще много мог им сказать, если бы ты только знал…
— Я догадываюсь!
— Послушай, — вздыхает он. — Особенно мне жалко, что я с ними не рассмотрел вопрос о похоронах. Но я им напишу из Парижа длинное письмо. Ты поможешь мне написать его?
— Да, Толстый, я помогу тебе.
— Я там объясню им, что смерть — это просто и не надо вокруг этого устраивать кино. Я, кода умерла моя мать, я не одевал по ней траур. Все происходило внутри, в трауре было мое сердце. Траурные шмотки — это все ханжество! А потом эта мания запрещать возлагать цветы. Венки, я не спорю, это печаль, но цветы, это так красиво… К тому же, понимаешь, что меня шокирует, так это разные гробы. Хоккей, что люди при жизни играют в богатство! Но когда становятся покойничками, все равны. Если бы я был в правительстве, я бы издал указ о едином гробе для всех. Одинаковое сосновое пальто для всех. Это прекрасная форма для «жмуриков», Сан-А… Главное в этом — это чтобы все уравнялись, до того, как попадут на эту большую ярмарку для клопов. Нечего выламываться, когда ты в горизонтальном положении. Тогда, может быть, и похороны не были бы такими похоронными. Слушай, я припоминаю юмористический рисунок Роде Сама. На нем был нарисован вдовец, который на похоронах своей жены слушал по транзистору репортаж о матче по регби между Францией и Ирландией. Я вот так вижу правду… Да, вот так. Мертвые — это мертвые, а живые — это живые.