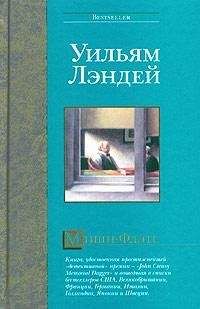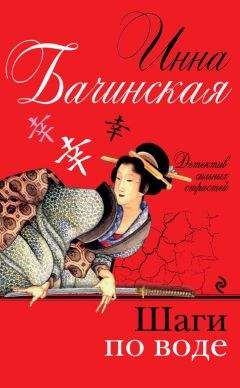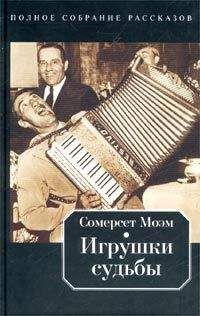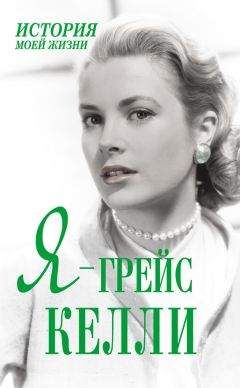Ворочал тело Данцигера. Прочел все бывшие с ним дела.
Из одного документа я узнал, что выстрел в глаз является фирменным убийством преступников из банды некоего Брекстона из Мишн-Флэтс.
Это давало мне надежду: отец именно так застрелил Данцигера.
Соответственно я поработал над местом преступления, дабы создать впечатление, что прокурора убил бандит. Из мести.
Чтобы отсрочить случайную находку тела и неявным способом уничтожить папки Данцигера, я затопил его «хонду» в озере.
Затем в последний раз запер бунгало. Теперь оставалось только ждать и надеяться на лучшее.
Буквально через несколько дней отец запил. Это создавало дополнительные трудности. Кто знает, что он может сболтнуть по пьяному делу!
Я по-прежнему ждал. Мне не хотелось самому «обнаруживать» тело. Пусть его найдет кто-либо другой, чтобы я никак не был связан с этим делом.
В глубине души я носился с надеждой, что тело никогда не найдут. Точнее говоря, найдут слишком поздно, когда степень разложения уже не позволит связать убийство с моей семьей. Достаточно наивная надежда...
В какой-то момент нервы у меня не выдержали, я устал от ожидания и лично «наткнулся» на труп.
Студенту-историку следовало быть умнее. История учит нас: ничто не кончается по воле людей. Всякая причина имеет свое следствие, звенья событий нерасторжимы, ни одно нельзя «украсть из истории». Можно не знать о каком-то событии, но оно существует во веки веков, оно работает, оно родило другие события.
Одно страдание производит другое. Цепь горестей бесконечна. Одно я мог: боль моего отца спихнуть другому, для меня чужому человеку...
* * *
На другом конце озера, на холмах, темнели силуэты елей.
Гиттенс что-то говорил, я почти не слушал. Мы стояли вдвоем в нескольких футах от воды.
– Когда я был мальчишкой, мы раз отдыхали в месте вроде этого. В Нью-Гемпшире, в домике на берегу озера. Всей семьей. Помню, в одном из соседних домиков жила девочка с родителями. Моя ровесница. Хорошенькая такая блондиночка. В голубеньком купальном костюме, хотя прикрывать еще нечего было. Она любила заниматься гимнастикой на берегу. Никогда не забуду ее спортивную походку, словно она в любой момент готова сделать с места тройное сальто...
Гиттенс задумчиво помолчал, глядя в темную воду.
– И знаешь, я, дурачок, так и не решился с ней заговорить.
Только самым-самым краем уха я его слышал. Я ощущал себя раздавленным, разбитым, сломленным, уничтоженным. Как домик-развалюшка. Еще вроде стоит, а толкни его плечом – и на части. Нет, страха я не испытывал; слишком много его пережил. То, что я чувствовал, было ближе к изнеможению. Даже к своего рода равнодушной скуке. Я сдаюсь. Твоя взяла, госпожа Судьба! Ну и что?
Гиттенс, очевидно, постоянно наблюдал за моим лицом. И заметил перемену в моем состоянии.
– Ну-ну, – вдруг сказал он успокаивающе, – не скисай, Бен. Не теряй голову и ворочай мозгами!
– Чего вы хотите, Гиттенс? – произнес я устало.
Вместо ответа Гиттенс не спеша обыскал меня – с головы до ног.
Дождь, до этого неприметно моросивший, вдруг припустил.
– Что же ты теперь намерен предпринять, Бен? – спросил Гиттенс, довольный результатом обыска.
Я молчал.
– Ты же должен был иметь запасной план. Стратегию на самый худший случай.
– Я не совсем понимаю, о чем вы говорите.
– Не ломай комедию! Такой въедливый ум не может не иметь резервного варианта на черный день!
– А какой запасной план имеете вы? И какая ваша стратегия на черный день?
– Ошибаешься, мой черный день не наступил. И стратегия мне без нужды.
– Фрэнни Бойл готов показать под присягой, что вы убили Фазуло и Траделла! И вы спокойны?
– Во-первых, Фрэнни Бойл уже имеет такую славу, что нет дураков ему верить. Тот же Лауэри достаточно умен, чтобы не затевать процесса, где единственным свидетелем будет Фрэнни Бойл, трепач и горький пьяница. Во-вторых, само свидетельство Фрэнни Бойла яйца выеденного не стоит, все построено на слухах и домыслах. Один покойник мне сказал то-то, другой то-то. Любой адвокат расколотит такое свидетельство в два счета. Словом, против меня никакого дела не существует. И насчет ордера на арест ты блефуешь. А если он есть – быть посему. Подержат и отпустят. Да еще и извинятся. Ты же умный мальчик, Бен. Работай серым веществом!
Но мои маленькие серые клеточки работать напрочь отказывались. Не было у меня запасного плана. Не было стратегии отхода. Только мучительная боль – за что? почему? Почему все это должно было приключиться – именно со мной, с моей семьей?
– Я помогу тебе, Бен, – сказал Гиттенс. – Если ты, конечно, разрешишь мне помочь тебе. Полицейские должны друг другу помогать. Позволь мне помочь тебе. *
– Каким образом?
– Все очень просто. Без меня у правосудия никаких доказательств против тебя. Единственный человек, который слышал признание твоего отца, – я. Единственный, кто знает, что револьвер, который ты сейчас держишь в руке, был орудием убийства, – тоже я. Если я буду держать язык за зубами, твоего старика никто не тронет. С какой стати?! То же самое касается и тебя. Если я буду держать рот на замке, с твоей головы и волос не упадет.
– А чем закончится дело об убийстве Данцигера? Его ведь нельзя закрыть просто так. Кого-то они должны предъявить суду!
– А Брекстон на что? – сказал Гиттенс.
– Никто на это не купится. У Данцигера была сделка с Брекстоном. Мотив убийства отсутствует.
– О, если все красиво упаковать – скушают. А если и ты меня в этом поддержишь, то мы засадим Брекстона за милую душу!
– Но... – Голос у меня сорвался.
– Никаких «но», Бен. Свалим все на Брекстона. Нашел кого защищать! По нему тюрьма давно плачет. В свое время он немало крови пустил, уж поверь мне! Так что настал час платить по старым счетам. Брекстон – гад и мерзавец. А мы с тобой по другую сторону. Мы с тобой принадлежим к «хорошим парням». Никогда этого не забывай. Дай мне хорошенько поговорить с ним. И он признается в обоих убийствах.
– Признается? Никого не убив – признается?
– Куда он денется, голубчик! Сперва признается, а потом нападет на меня, как он на прошлой неделе напал на тебя. Схватит мой пистолет, а тот возьми и выстрели...
– Это убийство!
– Какой чистюля нашелся, а? Это не убийство будет, а торжество справедливости. Что необходимо сделать, то сделать необходимо. Так-то, Бен.
Я помотал головой:
– Нет, я на такое не способен.
– А от тебя ничего и не требуется. Всю грязную работу сделаю я. Ты только подтвердишь в нужный момент: да, так оно все и случилось. Всего-то!
Мне нечего было на это ответить.
– Бен, другого выхода нет, – вкрадчиво продолжал Гиттенс. – Если я махну рукой и укачу в Бостон, твой отец получит пожизненное без права на досрочное освобождение. И тебе влепят несколько годков – за препоны следствию. Я хочу тебе помочь. Ты сейчас плохо соображаешь, сам не свой. Поэтому просто доверься мне.
Я ничего сказать не намеревался, но вдруг услышал свой голос:
– А вам, Гиттенс, что от этого обломится?
Он только плечами передернул.
– Ага, вы от Брекстона избавитесь! Он последний, кто способен причинить вам вред в этой истории. Потому-то Данцигер и вцепился в Брекстона, что не было иного способа вас достать! Вы предупредили Брекстона перед тогдашним рейдом. Он единственный может сказать, что вы были по другую сторону красной двери.
Гиттенс кивком попросил меня вернуть ему револьвер моего отца. Я рассеянно подчинился.
– Бен, я предлагаю тебе хорошую сделку. Других вариантов нет. Соглашайся, пока я добрый.
Я смотрел на озеро. Какая красотища! И как все глупо – все, что происходит с людьми посреди этой красотищи жизни! – Соглашайся, Бен.
Я упрямо мотнул головой.
Гиттенс печально вздохнул:
– Зря ты так, Бен. Надо уметь реагировать на пиковые ситуации. Жизнь поставила тебе мат. Я предлагаю взять обратно последний недальновидный ход. А ты, дурачок, упираешься. Нам следует доверять друг другу.
– «Нам следует доверять друг другу». Вы и Траделлу так говорили.
Гиттенс поджал губы. Затем медленно вложил револьвер отца в кобуру на поясе.
– Что ж, Бен, хозяин – барин. Тебе выбирать. Только не себе одному приговор подписываешь. Ведь и отца своего губишь!
Я оглянулся на отца – он стоял далеко от нас, возле машины, рядом с Брекстоном.
Человек-гора, которого все по-прежнему зовут Шериф.
Какой он теперь маленький и щуплый.
Что случилось в следующую секунду, я толком не помню. Вряд ли была какая-то мысль или ряд мыслей. Я даже не помню самого движения – а оно ведь из чего-то складывалось. Только знаю, что оно было, что я это сделал.
В памяти остался лишь звук.
Не знаю, какими буквами этот звук передать. Буквы глупые, неточные.
Хрясь!
Или цок!
Этот звук навеки в моем мозгу, но передать его я не умею.
Неожиданно глухой, спокойный такой звук.