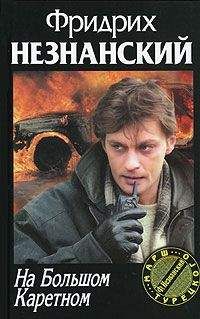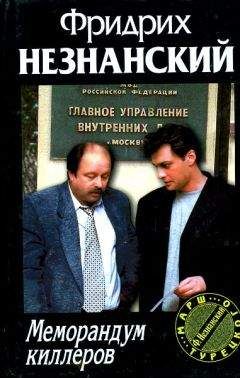Ознакомительная версия.
И она не могла смириться с этим отказом, хотя и понимала, что церковный закон един для всех.
Правда, обнадеживало другое. Тот же батюшка в церкви сказал ей, что, если она представит справку о том, что на момент самоубийства ее мужа, что является в православии едва ли не главным грехом, он пребывал в состоянии невменяемости, то есть не мог осмысленно руководить своими поступками и контролировать их, она может отпеть его уже после похорон.
И перед ней вдруг, словно на голограмме, всплыли внимательно-пытливые глаза немолодого уже священника и его слова:
– Вы уверены, что он достоин отпевания в церкви?
И она в который уж раз прошептала беззвучно:
– Да.
От воспоминаний очнулась, когда закончилась торжественная часть гражданской панихиды и ей с детьми предложили проститься с отцом и мужем.
В эти минуты она снова считала его своим мужем. Впрочем, так оно, наверное, и было. В свое время они не только расписались в ЗАГСе, но и, что было, пожалуй, самым главным для них обоих, венчались в церкви, венчались перед Богом, и этого с них пока что еще никто не снимал.
Пропустив сына и рыдающую дочь впереди себя, она склонилась над заострившимся лицом Толчева, который был и похож и непохож на себя, тронула кончиками пальцев прикрытую бинтом, аккуратно заделанную рану на правом виске, невнятно прошептала какие-то слова, поцеловала холодный лоб.
В отличие от рыдающей дочери и сына, который тоже не стеснялся своих слез, ее глаза были совершенно сухими, и только плотно сжатые скулы да сухой, почти лихорадочный блеск глаз выдавали ее состояние.
– Послушай, Алька, ты бы поплакала малость, – посоветовала ей Ирина Генриховна, которая с самого утра неотлучно находилась при Толчевой, взвалив на себя все хлопоты с похоронами. – Уверяю тебя, легче будет.
Алевтина только головой качнула в ответ, а чуть погодя шевельнула губами:
– И рада бы, но... Не могу, сил нет. Будто застыло что-то внутри.
Ирина Генриховна кивнула понимающе. Когда ее Турецкого, на грани жизни и смерти, с пулевым ранением положили на операционный стол в институте Склифосовского и она несколько часов кряду просидела на крохотном диванчике в приемной, тупо уставясь остановившимся взглядом в пол, у нее также что-то сжалось внутри, и ощущение было такое, будто огромный, мертвецки холодный круг втянул в себя все ее внутренности. Она и рада была бы тогда поплакать, чтобы со слезами выплеснулась из ее нутра пожирающая боль, да не могла.
На Люблинском кладбище, куда следом за ритуальным автобусом, в котором сидели только самые близкие Толчеву люди и следом за которым вытянулась длиннющая вереница из дорогих и более дешевых иномарок, среди которых затерялось несколько отечественных «Жигулей», также говорили какие-то слова, в смысл которых даже не пыталась вникнуть вконец обессилевшая Алевтина, кто-то предложил каждый год, в день смерти Толчева, посещать эту могилку, а чуток погодя...
Когда четыре могильщика спустили на веревках уже заколоченный гроб в свежевырытую, еловыми ветками и красной материей прибранную могилу и на крышку гроба упали первые комья земли, отозвавшиеся в ее сердце колокольным набатом, она вдруг поняла, что уже никогда... никогда не увидит своего Толчева, не прижмется к его груди, и разрыдалась безутешным плачем.
За поминальным столом, на который не поскупилась редакция журнала, Алевтина наконец-то пришла в себя, выпила пару стопок водки за помин души и уже была в состоянии говорить что-то осмысленное и даже улыбаться благодарной улыбкой сидевшим за тремя столами людям.
Все это время, практически с самого раннего утра, когда Ирина Генриховна приехала к Толчевым, которые жили неподалеку от дома на Большом Каретном, она практически не отходила от нее, держа наготове облатку с валидолом, несколько пузырьков с валокордином, корвалолом, валерьяной и даже пузырек с нашатырным спиртом. Пару успокаивающих таблеток она заставила Алевтину выпить еще до того, как Турецкий прислал машину, чтобы ехать в морг. Сам же Турецкий на похороны приехать не смог – срочно вызвали на доклад к генеральному прокурору, и он пообещал Алевтине заехать к ней домой ближе к вечеру, когда освободится.
Кто-то говорил очередные слова о Толчеве как о мастере фоторепортажа и как о человеке, как вдруг Алевтина произнесла негромко:
– Обидно все, за Юру обидно.
– Что обидно? – не поняла Ирина Генриховна.
– С церковью... и с отпеванием. Словно он злыдень какой-то.
Сказала это и уткнулась глазами в тарелку.
Догадываясь о душевном состоянии Алевтины, Ирина Генриховна тронула ее за плечо:
– Успокойся, прошу тебя. Ведь сколько людей хоронят без отпевания, вспомни хотя бы советскую власть. А здесь... Да и церковь понять можно – у нее свои законы, и нарушать их никому не положено.
Она гладила Алевтину по плечу, однако та, казалось, даже не слышала ее, уставившись остановившимся взглядом в тарелку с нетронутой закуской.
– Они... в церкви... говорят, что самоубийство – это несмываемый грех, но ведь Юра...
Алевтина замолчала, отерла тыльной стороной ладошки снова совершенно сухие глаза. Сглотнула подступивший к горлу комок и, повернувшись лицом к подруге, произнесла:
– Он не самоубийца, нет! И я... я не верю, что он сначала эту сучку, а потом... потом и себя.
Ирина Генриховна хотела было промолчать на этот крик души, однако что-то заставило ее разжать губы, и она негромко, чтобы слышать могла одна только Алевтина, произнесла:
– Алька, дорогая! Веришь ты или нет, но ведь это уже доказанный факт, понимаешь ты, до-ка-зан-ный... да и уголовное дело закрыли, так и не открыв его.
– Вот именно что не открыв его, – глухим, тусклым эхом отозвалась Алевтина. – А если бы не закрыли да хотя меня с детьми опросили...
Ирина Генриховна уже более внимательно присмотрелась к уткнувшейся в свою тарелку Алевтине.
– Ты что же... думаешь, что...
– Я не думаю, я знаю! – неожиданно вскинулась Алевтина. – И я хорошо знаю, я уверена, что Юра не мог так вот, запросто, покончить с собой и тем более не мог стрелять в эту тварь.
Ее ноздри раздувались, и она, видимо не в состоянии совладать с собой, потянулась рукой за бутылкой водки, что стояла перед ней.
Наполнила свою рюмку и Ирина Генриховна. Она понимала, что Алевтина полна ненависти к смазливой журналисточке, которая увела ее мужа из дома, но чтобы говорить вот так... причем совершенно безапелляционно... Для этого кроме женской ненависти требовались более веские основания. И она спросила, едва разжимая губы:
– А почему ты думаешь, что он не мог?.. Стрелять не мог, а потом... потом застрелиться?
Она с трудом подбирала слова, чтобы только лишний раз не сделать Алевтине больно.
Алевтина осушила свою рюмку, поставила на стол, и ее все еще красивое, но в самый последний момент увядшее лицо исказила гримаса внутренней боли.
– Да потому, что Юрка уже не любил ее, порой даже ненавидел и ждал только момента, чтобы выгнать эту шлюху подзаборную из дома.
Ирина Генриховна покосилась на Алевтину, спросила хмуро:
– Так чего же он тянул и сразу не выгнал, как только узнал о ее загулах?
Алевтина тяжело вздохнула:
– Ты же знаешь Юрку. И он не мог... не мог так вот запросто оставить ее без крыши над головой.
Несмотря на то сочувствие, которое Ирина Генриховна в этот момент испытывала по отношению к своей подруге, она не могла не усмехнуться внутренне. И чтобы не выдать себя, спросила:
– А ты-то откуда знаешь про их отношения да про «крышу над головой»?
– Оттуда и знаю, – вяло отозвалась Алевтина, – что он сам об этом мне незадолго до смерти говорил.
– Так вы что, встречались? – удивилась Ирина Генриховна. – Ты же об этом...
– Он сам просил никому не говорить. Твердил, что перед общими друзьями стыдно. Однако навещал нас часто. Деньги приносил, с детьми общался. А в последнее время вообще...
Она вдруг замолчала, будто сказала что-то лишнее, и снова тупо уставилась в свою тарелку.
Общих друзей стеснялся...
Это действительно было похоже на Толчева, и Ирина Генриховна тронула Алевтину за плечо:
– Ты сказала «вообще». И... и что?
Лицо Алевтины дрогнуло, неожиданно сморщилось, словно печеное яблочко, и она подняла на подругу наполненные болью и глубокой скорбью глаза.
– Когда он был в последний раз у меня и мы... мы опять, как в молодости... когда не было детей... – Она улыбнулась, видимо припоминая минуты недолгого счастья, смахнула ладошкой выступившую на глазах слезинку и уже совсем тихо прошептала: – В общем, он сказал тогда, что уже окончательно решил порвать с Марией. Мол, у него к ней, кроме ненависти, ничего более не осталось, и он... он плакал, выпрашивая у меня прощения.
Она замолчала, оборвав себя на слове, сжала голову руками. Наконец оторвала глаза от пола и совсем уж упавшим голосом произнесла:
Ознакомительная версия.