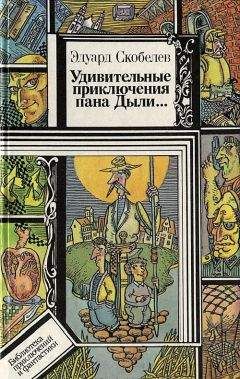Ржала кобыла — далеко-далеко уносился звук в безлюдном, но живом пространстве…
И второе воспоминание так же задевало и корежило душу невысказанным, от которого было не освободиться: что же затеяли люди на земле и как же бог, если он существует, допустил до этой кутерьмы, несправедливой, бессмысленной и жестокой?..
Белые отступали. Отбив в течение двух дней четыре атаки свежей дивизии, погоняемой истеричными комиссарами, стойко державшийся пехотный полк внезапно дрогнул и надломился, когда поползли слухи о том, что красные окружают и вот-вот прорвутся к единственному мосту через Каму, тогда никому будет не спастись.
Роты снимались без приказа. Командиры делали вид, что разделяют этот стихийный порыв, хотя прекрасно понимали, что в войсках могли действовать и, конечно, действовали лазутчики и ловкие говоруны-провокаторы Совдепии.
Хотя войска снимались скрытно, всё же красные заметили отход и стали лупить по единственной стеснённой холмами дороге, уходившей на восток; обстрел позволял если не рассеять войска, то дезорганизовать их отход.
Внезапно пошёл сильный дождь, в котором человек теряет привычную ориентацию. Один из снарядов угодил в повозку полевого лазарета. Лошади были убиты, два санитара суетились вокруг раненых, в стороне что-то горело розовым пламенем, и дыма не было, его сбивал дождь, и сумерки уже сгустились.
Солдаты шли, увязая в грязи, чёрными птицами скользили офицеры на конях, где-то впереди застряла пушка, и никто не хотел помочь артиллеристам, пока не вмешался кто-то из офицеров, громкой бранью усовестив торопившихся к ночлегу солдат. Но добрый призыв только усугубил дело: едва продолжилось движение, снаряд угодил в самую середину колонны, — ослеплённые и раненые стонали и кричали в кромешной тьме, полагая, что товарищи уже позабыли о них…
В ноябре 1918 года молодой матрос из Виленской губернии волею случая попал в окружение Александра Васильевича Колчака и прислуживал ему в качестве денщика, а временами и повара до второго января 1920 года. Служил ревностно и верно, почитая Верховного Правителя Всероссийского правительства в Омске за образец бескорыстия и честности.
Колчак заметил искренность, доброту, желание поддержать и помочь и, сам нередко недуживший, не раз расспрашивал денщика о здоровье, настроении, тяготах службы, старался облегчить его судьбу.
Второго января адмирал встал, как всегда, очень рано. Стараясь не разбудить жену, накинул полушубок и вышел из вагона.
Караульный офицер и часовые знали привычки «верховного» и старались не тревожить его дум: ни докладов, ни разговоров.
Заложив руки за спину, Колчак прошёлся вдоль заснеженных путей. Запрокинув голову, смотрел на ночные звёзды, отворявшие бесконечность просторов и тем самым уже как бы укорявшие человека за мелочность и ограниченность всех его замыслов.
Денщик не сразу заметил, что адмирал вышел на мороз без шапки, а, спохватившись, выскочил следом:
— Ваше превосходительство!..
Адмирал не шелохнулся — стоял, глядя в небо, словно там искал ответа на мучавшие его вопросы.
Денщик пробежал по скрипучему снегу, подал в руки папаху.
— Не уходи, — тихо сказал адмирал. — Близится время, когда события потекут вопреки моей воле. Тогда будет поздно разбираться. Уже теперь поздно…
Наблюдательный и умный денщик сразу смекнул, что слышит важное, небывалое и это надобно сохранить для поколений. Время, может быть, сгладило колорит слов, причесало их, как волны причесывают песчаный берег, но суть их осталась тою же, что и была, — в них проступала тревога вселенского масштаба.
— Виновата царская власть перед нами, ох, виновата!.. Вот я кое-что соображаю и вести на смерть и к победе вроде бы научился, но как был слепцом, так и остался. Да и они были сплошь слепцами, потворствовали чужим, губительным замыслам… Бог — только надежда, а не подсказчик. Хоть миллион поклонов бей перед образами, а коли не знаешь, как крепится ствол орудия к лафету, не прояснится. — Он вздохнул. — Доверчивые, открытые и благородные русские люди, чем кончат ныне?.. Важен кусок хлеба, важна свобода, но всего важнее на свете правда жизни. И всякий режим ничтожен и лжив, если не пытается открыть людям глаза, прорвать пелену лжи… Россия-то ведь уже давно в мареве сплошной лжи. И все эти партии, все эти затрибунные горлопаны — бутафория для дураков, а суть действа — иная… Обнаружилось, что и мы кровушку тут проливаем за чужие интересы — людей губим, которые ещё понадобятся, чтобы защитить наши дома, да их уже не будет, — вольготно станет ворам да насильникам… Как получается, что те — среди красных, а эти — среди белых, и интерес у них общий?.. Продана Россия, как давно продана и Англия, и Америка, и трясутся наши вороги только о том, чтобы не упустить свою добычу… Нам отступать уже некуда, попали мы в ловушку в собственной стране, и всемирный Иуда пригвоздит нас к кресту нашей христианской любви и нашего мирского невежества… Сегодня утром, служивый, выпишут тебе нужные бумаги и исполнишь мою последнюю волю, а там уже — Бог тебе судья!..
Мог ли яснее выразиться Колчак, который в самый критический момент обнаружил заговор и среди своих офицеров, и среди своего правительства, и среди чешских легионеров, и среди представителей держав Антанты — заговор, который полностью соответствовал целям иноземной камарильи в Москве и Петрограде, дурачившей и своих сторонников, и весь народ социализмом и грядущим процветанием «вселенского братства пролетариата»?..
На рассвете того же дня переодетый под сибирского мужика денщик отправился в Москву с письмом к какому-то личному другу адмирала, а самого Верховного Правителя, вовлечённого в вихрь заговора, через две недели верхушка чехословацкого корпуса сдала «эсеро-меньшивистскому Политцентру» в Иркутске вместе с 29 вагонами российского государственного золотого запаса за пропуск эшелонов к Владивостоку.
Сколько трагедии скрывает эта преподлейшая сделка, главное в которой никогда не было обнародовано!
А 7 февраля адмирала Колчака, именитого учёного, исследователя Заполярья, организатора борьбы против насильственного революционного переворота, расстреляли без суда и следствия.
Подло и трусливо, что выражало главную суть распространявшейся власти заговорщиков и их невежественных и нетерпимых к инакомыслию пособников из обманутого простолюдья.
В последние минуты жизни адмирал сумел проявить то же бесстрашие, с которым прошёл свою короткую жизнь — он умер в 46 лет. Он держался спокойно и решительно отказался от предложения — завязать ему глаза.
— Ещё чего! Такое недостойно ни нашего звания, ни положения!..
— По вгагам геволюции — пли!..
Он был смертельно ранен на песчаном берегу Ушаковки, стремительного притока Ангары. Тело, в котором ещё спорила жизнь, скрутили верёвками и опустили в прорубь. В сером рассвете расстрелыцики хлестали кружками водку: прихватили с собой целый бочонок. Но водка «не шла»: их потрясло мудрое спокойствие человека, до конца исполнившего долг совести. Они блевали и остервенело матерились, догадываясь, конечно, что все они преступники.
Враги революции главенствовали среди тех, кто кричал о её победоносной поступи, кто действовал от её имени, но немногие, знавшие об этом наверняка, были лишены голосов…
Другая правда стала всё чаще являться Алексею Михайловичу с весны 1978 года, когда он похоронил лучшего специалиста головного КБ. Тот поехал проведать старого отца под Курск да и умер там от кровоизлияния. Прохоров лично вылетел на место — просмотреть документы умершего, выяснить обстоятельства смерти и поприсутствовать на похоронах. Его сопровождали два чина секретной охраны.
Умерший, Пётр Фомич Воронков, был удивительным инженером — экспериментировал целыми сутками. В его лаборатории дважды гремели взрывы, но оба раза он чудом отделывался лёгкими царапинами. Других пострадавших не было, — на время включения установки Пётр Фомич выпроваживал всех из помещений.
Для такого сына Отечества было бы не жалко выделить место и у Кремлёвской стены, но так пожелали его родственники — похоронить в деревне.
Отец Петра Фомича, Фома Петрович, в прошлом школьный учитель, которому было за 70, внезапно обнаружил цепкий ум и поразительную откровенность.
После поминок они вдвоём остались за поминальным столом, который медленно прибирала глухая родственница Фомы Петровича.
— Может, и я виноват в смерти сына, — грустно признался старик. — Я его вызвал-то для чего? Чтобы кое-что рассказать, что лежит на душе тяжёлым камнем…
И — поведал историю, ошеломляющую и почти невероятную.
Хотя, что в ней невероятного?
В 1942 году немцы расстреляли под Смоленском группу еврейских беженцев. Фоме Петровичу удалось спасти одного еврейского подростка. Вырастил его, выкормил. Заботился о нём больше, нежели о родном сыне: чтобы, не дай бог, позднее не попрекнул.