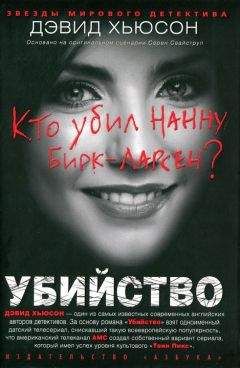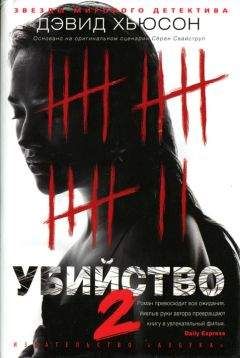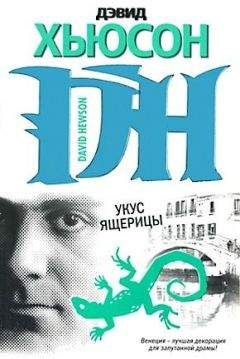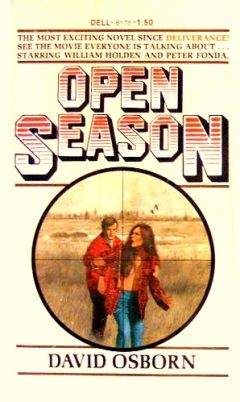— Это лишнее, — сказала Майя Рандруп и забрала рамку с фотографией Джона и Джеки Кеннеди. — Слишком… — Она наморщила короткий носик, и Хартманн нашел эту гримаску милой. — Слишком старая.
В чистой рубашке, освеженный одеколоном, он чувствовал себя опустошенным, но в целом не слишком плохо. Он стоял и ждал, когда ему скажут, что делать.
В дверь постучали, вошел Мортен Вебер. Он кивнул — Майе Рандруп, а не Хартманну.
— Он готов? — спросил Вебер.
Она что-то отвечает, но Троэльс Хартманн не слушает. Получив команду, он идет вслед за невысоким советником с непослушными кудрями и дешевой оправой, покидает кабинет, пересекает штаб Либеральной группы, шествует через мерцающие золотом и лаком коридоры, в распахнутые двери, мимо любопытных лиц.
На подходе к парадному залу Мортен Вебер начинает аплодировать. Майя Рандруп делает то же самое, и вот уже овация охватила зал, как огонь охватывает сухостой. Он шагает к полированному великолепию зала заседаний городского совета, яркое сияние которого ослепляет его на мгновение.
В дверях он замирает. Видит камеры, лица, хлопающие ладони. Переступает через порог.
Восходит на подиум, где стоит великий трон Копенгагена.
Приближается к полированному сиденью, кладет твердую руку на старое дерево.
Поворачивается к толпе, замершей в ожидании.
И улыбается.
Улыбается.
Улыбается.
Солнечный день, нарисованный скудной палитрой. Зима окончательно завладела Копенгагеном, соленый воздух был резок и холоден, солнце слепило белым светом.
Лунд сидела перед больницей и дрожала в тонкой синей ветровке. Ее вещи так и остались лежать в подвале Вибеке. Всего несколько предметов одежды и косметичку с туалетными принадлежностями взяла она с собой, поселяясь в хостеле возле Центрального вокзала, где собиралась понять, что делать дальше.
Она приехала уже час назад, но, подходя к входу, заметила такси, из которого выходила Ханна Майер с тремя дочками. Поэтому она села на бетонное ограждение вокруг больничного двора, запахнула поплотнее куртку и, куря одну сигарету за другой и сжимая папку, тайком добытую для нее сегодня Янсеном, продумывала варианты, предлагаемые ее деятельным воображением.
Без четверти одиннадцать они вышли. Дожидаясь, пока они, ежась от холода, погрузятся в такси, Лунд подсунула папку под куртку и натянула пониже капюшон. Затем настала ее очередь войти в больницу. Там ей пришлось десять минут уговаривать персонал, чтобы ее пропустили. Наконец ее повели по длинному белому коридору к отдельной палате в самом его конце. Палату и лечение наверняка оплачивала полиция, учитывая обстоятельства ранения.
Она вошла внутрь; от яркого света, льющегося из высоких окон, вдруг закружилась голова.
У окна инвалидная коляска, на ней человек в белом больничном халате, из-под которого виднелась голубая пижама. Бледное лицо, небритый подбородок. Большие уши и грустные глаза — еще более грустные, чем раньше. От стойки капельницы с пакетом физраствора бежала трубка, заканчиваясь иглой в тыльной стороне его левой ладони.
В палате работал телевизор. Транслировали торжественное вступление в должность мэра Копенгагена. Троэльс Хартманн восседал в зале заседаний городского совета, величественно помахивая рукой публике у его ног, которая, в свою очередь, восторженно аплодировала, приветствуя нового хозяина ратуши — молодого и энергичного, несущего надежду.
Майер сидел перед круглым столиком. В его руке был короткий нож, которым он очень неуверенно срезал кожуру с яблока. Каждое медлительное движение руки дублировалось покачиванием трубки капельницы вверх и вниз.
— Я принесла вам кое-что, — сказала Лунд и достала из кармана два банана.
Он без выражения посмотрел на желтые фрукты.
— Я знала, что вы выкарабкаетесь. Не представляла, что увижу ваше имя на мемориальной доске в управлении.
Бледно-голубая пижама. Белый халат.
В телевизоре Хартманн произносил речь.
— Вот гад, — пробормотал Майер.
Звучали высокие слова, перечислялись благородные устремления — Хартманн с легкостью вошел в роль Поуля Бремера.
— Он думает… — Майеру было трудно подбирать слова. — Он думает, если не виноват, значит невинен. Все они так думают. Достаточно умыть руки…
— Мне нужно…
— Они врали нам — и одноклассники, и учитель, и эти сукины дети из ратуши.
— Вы должны…
— Все до единого. Им было плевать на Нанну, они думали только о себе.
Он потянулся к пульту. Хартманн уже входил во вкус: вещал об ответственности и социальном сплочении, об интеграции и сбалансированном развитии промышленности.
Дело Бирк-Ларсен было закрыто и забыто. В то утро в прессе о нем не было сказано ни слова.
Майер выключил телевизор. В комнате стало тихо, так как оба они молчали.
Лунд вынула из-под куртки папку, полученную от Янсена. Он смотрел, как она выкладывает на стол ее содержимое. Это были фотографии, новые.
— Что вы хотите? — спросил он высоким болезненным голосом.
— Есть кое-что, и я хотела вам рассказать. Кое-что…
Какая-то неоформленная, смутная мысль родилась в ее мозгу вскоре после смерти Вагна Скербека и с тех пор не покидала ее. Фотографии от Янсена заставили Лунд возвращаться к этой мысли еще чаще. Что-то осталось неучтенным. Что-то было совсем рядом, надо было только соединить две точки. Но ей нужна была помощь. Помощь человека, который ей доверял.
— Смотрите, — сказала она. — Я вижу, значит и вы увидите.
По темному лесу, мимо мертвых стволов, не дающих укрытия, бежит Метта Хауге.
Задыхаясь на бегу, дрожа в рваной рубашке и джинсах, увязая босыми ногами в липкой грязи.
Злобные корни хватают за лодыжки, ощерились сучья — рвут ее крепкие руки-крылья. Она падает, карабкается, выползает из отвратительных гнилых луж, пытается остановить зубную дробь, пытается думать, надеяться, спрятаться.
Два ярких круглых глаза преследуют ее, словно охотники раненую лань. Они приближаются широким зигзагом, прорезают насквозь лес Пинсесковен.
Голые серебристые стволы встают из бесплодной почвы как конечности древних трупов, застывших в последней муке.
И снова падение, хуже прежних. Земля исчезает под ней, и ноги летят в пустоту. Молотя руками, крича от боли и отчаяния, девушка проваливается в мутную ледяную канаву, натыкается на камни и бревна, режется об острый гравий. Головой, ладонями, локтями, коленями ловит невидимую твердую землю, ускользающую от нее в темноту.
Стылая вода, страх — и где-то рядом они…
В ее голове дикая круговерть мыслей. Она думает о родителях, живущих одиноко на их затерянной в глуши ферме, о маленьком спокойном мире, оставленном позади. Она думает о том дне, когда ей дали крошечную розовую таблетку, о приливе блаженства, веселья, о данных обещаниях. И о предъявленных требованиях.
Дешевая позолоченная цепочка болтается на ее шее, на цепочке — черное сердце из стекла. На лодыжке — недоделанная татуировка.
Вдруг приходит ярость. «Кислотная магия» из Христиании творит свое зловещее чудо. Заколдовывает ее. Заколдовывает их.
Она где-то на пустошах за Каструпом, затерянная в желтых травах, сотрясаемая неуемной дрожью, с колотящимся сердцем.
Это посвящение, о котором она просила, ритуал, от которого она теперь не может отказаться.
Метта Хауге бежит, зная, что заблудилась. Перед ней ничего, кроме пустошей, за которыми серый холодный барьер моря. Но все-таки она бежит, бежит. Падает.
Падает и ждет, сжав кулаки, готовая.
Вот что видит Лунд в своей беспокойной голове — отчетливо и ярко.
— Фотографии…
Майер не желал на них смотреть.
— Я попросила Янсена вернуться и проверить кое-что. То есть проверить все, что осталось в хранилище «Меркура».
— Я думал, вас уволили.
— И результаты аутопсии тела Метты. Еще кассету из гаража ратуши. Мы ведь так и не занялись ею. Вы должны посмотреть.
Через стол протянута фотография.
— На правой лодыжке Метты следы татуировки — черное сердце, недорисованное. Я думаю, она делала ее в день смерти. Это было частью… ритуала.
Он упорно смотрел в окно, жмурясь от сверкающего зимнего света.
— Татуировку делали не в салоне, инструмент любительский. Значит, они делали ее сами, как часть церемонии. Что-то вроде сурового испытания, которое ты должен пройти, чтобы тебя приняли в избранный круг.
Майер закрыл глаза и вздохнул.
— В то время существовала банда, которая называлась «Черные сердца». Они продавали в Вестербро марихуану, ЛСД и кокаин из Христиании.
Она придвинула к нему еще бумаги.
— Вот тут данные тех лет об этой банде. Она распалась вскоре после того, как исчезла Метта.
— Что вы хотите сказать, Лунд?