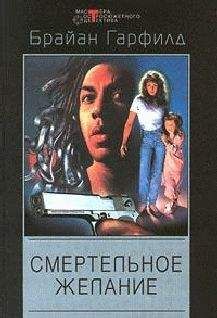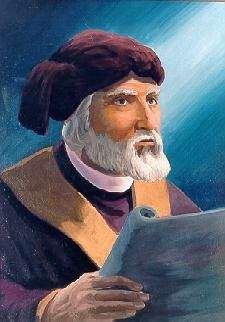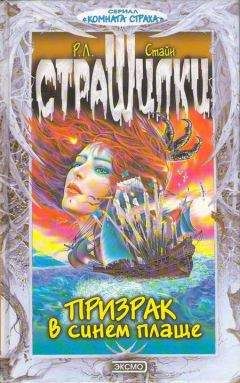Ферма выглядела заброшенной и безлюдной – окна без стекол, никаких следов животных, сами стены зданий, кажется, вот-вот обвалятся и рухнут. Но когда они подлетели ближе, Фэрли понял, что ошибся. В одном из домов из печной трубы поднималась тонкая струйка дыма, а снег во дворе рядом с домом и амбаром был истоптан и исчерчен следами шин. Дорожная колея двумя бледными лентами уходила в расщелину каньона.
Лейтенант посадил вертолет так мягко, что Фэрли даже не почувствовал толчка.
Он услышал рядом шумный вздох и понял, что это вздыхает Рифкинд. Агент внимательно разглядывал здания; в руке у него появился пистолет. Фэрли негромко сказал:
– Уберите, пожалуйста, эту штуку.
Лейтенант говорил в микрофон, одновременно считывая координаты с карты:
– Фокс ноль-девять, примерно в середине северо-западного квадрата. Здесь есть небольшая старая ферма, дома видно издалека, так что вы должны легко их обнаружить. Повторяю, координаты фокс ноль-девять…
Рифкинд задумчиво почесал щеку, а его агент заметил:
– Пора бы им уже выйти и полюбопытствовать, кто мы такие.
– Может быть, они принимают нас за привидения, – с усмешкой сказал лейтенант.
– Тут нет ничего смешного, – пробормотал Рифкинд. – Страна Басков – не самое спокойное место на земле. Мало того, что они занимаются контрабандой на французской границе, в этих горах полно баскских националистов, которые в тридцатых годах сражались с Франко и, похоже, воюют до сих пор.
Вертолетный винт наконец остановился и умолк. Лейтенант сказал:
– Кажется, никого нет дома. Но я схожу посмотрю. Не выходите из кабины.
Лейтенант открыл левую дверь и вылез наружу. Рифкинд и его агент пристально разглядывали ферму; Фэрли тоже наклонился вперед, чтобы лучше видеть, что там происходит.
Лейтенант стоял на снегу у открытой двери. Он медленно стягивал перчатки и смотрел в сторону фермы, не торопясь туда идти; потом закурил и повернул голову, внимательно оглядывая двор. Фэрли мог проследить за его взглядом только до определенного предела – из вертолета нельзя было увидеть, что происходит сзади.
Лейтенант закончил свой осмотр. Потом совершенно спокойно, как будто в его поступке не было ничего необычного, он бросил окурок в лицо Майеру Рифкинду.
У Фэрли не было времени понять, что происходит. Позади вертолета появились люди, правая дверь стала открываться, и лейтенант резко ударил Рифкинда в область диафрагмы; тот скорчился в кресле, ловя ртом воздух и хватаясь за свой служебный револьвер; от быстроты этих событий по спине Фэрли пробежал какой-то озноб, он стал поворачиваться в кресле, и в это время кто-то выстрелил справа от него.
Голова агента дернулась в сторону, с неправдоподобной четкостью, как при замедленной съемке, над его бровью появился черный диск, обрамленный красной пеной. Лейтенант выволок Рифкинда из вертолета. Чья-то рука протянулась мимо агента к Фэрли, тот заметил это уголком глаза. Последовал новый выстрел; Рифкинд выбросил вперед руку, чтобы опереться на нее, но уже в падении он умер, и рука его бессильно подвернулась.
Последнее, что увидел Фэрли, была вспышка газового пистолета.
10.20, восточное стандартное время.
В кармане Билла Саттертуэйта лежала вещь, которая лучше всего отражала его статус в Вашингтоне, – радиопеленг, который издавал сигналы всякий раз, когда требовалось его присутствие в Белом доме.
Эта вещица служила предметом зубоскальства в местной политической элите. Вашингтонские хозяйки острили: «Дорогая, когда у Билла прямо посреди званого обеда начинает звонить его будильник, я не знаю, что мне делать, – продолжать обед или вести гостей в подвал на случай третьей мировой войны». Необычное устройство раздражало его жену, восхищало сыновей и смущало дипломатов, приезжавших из стран, где не понимали, зачем вообще может понадобиться такая срочность.
Саттертуэйт был одним из немногих людей, которых пропускали в суд, не подвергая обыску, и это тоже являлось своего рода символом.
Зал суда был полон. Впереди сидели журналисты и художники, зарисовывавшие участников заседания. Саттертуэйт присел с краю, протирая стекла своих очков и приготовившись скучать.
Пока шла только предварительная работа. Большому жюри потребовалась неделя, чтобы сформулировать обвинительное заключение, поскольку в его тексте нельзя было допустить ни малейшей ошибки.
Но служба есть служба. Когда ровно в десять в зале появился окружной судья, подсудимые отказались встать. Губы у судьи Ирвина были строго сжаты; сев и расправив складки на своей мантии, он заявил о неуважении к суду и предупредил подсудимых, что, если они попытаются мешать своими действиями процессу судопроизводства, он прикажет их связать и заткнуть кляпом рот.
Никто из присутствовавших в зале не счел это излишней строгостью. Всем было ясно, что суд над вашингтонской семеркой грозит превратиться в большой спектакль. У Филиппа Хардинга и его подопечных не было никаких шансов избежать обвинительного приговора, они могли надеяться только на апелляцию. Если им удастся вывести из себя судей, то, возможно, в будущем у них появится повод для подачи апелляции или для объявления суда недействительным. Что касалось подсудимых, то, поскольку они обвинялись в покушении на систему, частью которой являлся сам этот суд, им не было никакого смысла подчиняться его правилам и этикету, и они собирались использовать любую возможность для вызова и провокаций.
Целью правительства было максимально ускорить все процедуры. Разумеется, всегда найдется повод перевести дело в Верховный суд, но генеральный прокурор ясно дал понять, что намерен приложить все усилия для быстрого завершения судебного процесса.
Чтение обвинительного заключения было чистой формальностью; зато присутствие в зале Акерта и Саттертуэйта свидетельствовало о личном участии в этом деле президента. Брюстер сказал им: «Вам надо просто показаться. Пусть вас увидят журналисты».
На соседних местах Саттертуэйт насчитал четверых сенаторов и шестерых представителей – все это были хорошо известные фигуры из обеих партий. Конгрессмен Молнар из Калифорнии, который по своим убеждениям стоял чуть правее Гитлера; конгрессмен Джетро, черный социалист из Гарлема; сенатор Алан Форрестер из Аризоны, твердо занимавший политический центр. Президент хотел продемонстрировать солидарность всего правительства, и самым рассерженным из его представителей казался левый Джетро, считавший, что взрывы в Капитолии отбросили его единомышленников лет на десять.
Для Саттертуэйта все эти политические течения и идеологии были скучнейшей вещью. Он смотрел на историю с точки зрения теории игр. События определялись не столько массовыми движениями и политической борьбой, сколько капризами королей, интригами женщин, несчастными случаями и счастливыми совпадениями. Те, кто стояли у власти, оценивали шансы, прикидывали возможности и делали правильные ставки на правильные номера; их долгосрочной целью было выиграть больше, чем проиграть, а методом анализа – рассматривать каждый поворот колеса как индивидуальный случай. «Долгосрочная политика» являлась бессмысленной фразой, потому что невозможно предугадать, как лягут карты в следующей игре и кто будет вашим очередным партнером – новый Гитлер или новый Ганди.
Монотонный голос генерального прокурора, читавшего документы, предназначенные больше для печати, чем для оглашения, усыпляюще действовал на Саттертуэйта. Подсудимые прерывали чтение громкими выкриками, зевками, вызывающей болтовней и смехом. Роберт Уолберг без конца подкидывал на ладони монету, всем своим видом выражая презрение к суду и правосудию вообще. Филипп Хардинг, засунув большие пальцы рук в проймы своего жилета, на протяжении всего чтения с оскорбительной усмешкой смотрел на Акерта.
Акерт как раз подошел к последнему абзацу и остановился, чтобы перевести дыхание, когда у Саттертуэйта зазвонило его электронное устройство.
Обычно эти звонки вызывали у него тревогу, но сейчас он был рад, что они дали ему удобный повод уйти. Он выбрался из ряда через чьи-то колени и быстро вышел в коридор.
Охранник открыл перед ним дверь, и Саттертуэйт приостановился, чтобы спросить, где находится ближайший телефон.
– В кабинете секретаря суда, сэр.
Он проследовал в направлении пальца охранника и вошел в кабинет, где за столами сидели несколько женщин. Саттертуэйт обратился к ним, и одна из женщин поставила перед ним телефон.
У секретарши президента был необычно сухой голос; она казалась чем-то подавленной.
– Президент срочно хочет вас видеть; мы послали за вами машину.
Значит, случилось нечто большее, чем мелкая проблема. Он торопливо вышел на улицу.
Патрульная машина уже подъехала к тротуару, на ее крыше мигали синие и желтые огоньки. Водитель открыл Саттертуэйту заднюю дверь, как только тот подошел к бордюру; едва он сел в салон, как в его ушах раздался рев сирены. Машина помчалась по бульварам, слегка притормаживая на красный свет и обгоняя уличный поток по встречной полосе; он чувствовал, как от скорости у него сосет под ложечкой.