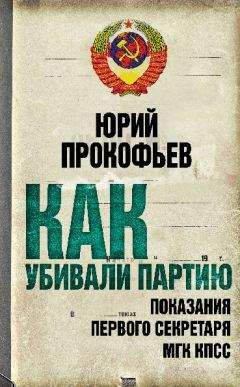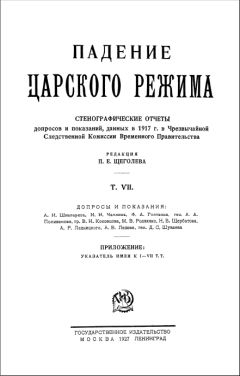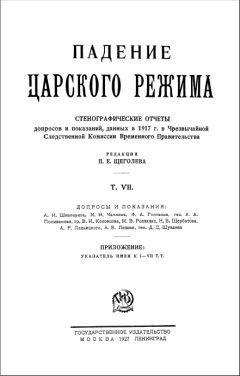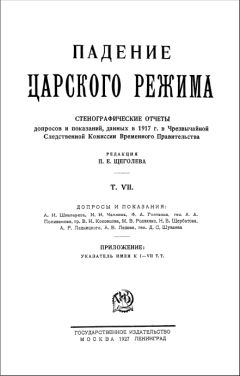— Тогда была неофициальная встреча. И импульс был адресован американцам. Сейчас он хочет создать впечатление, что вся инициатива идет от самих евреев. Зачем-то ему это надо. Не знаю зачем. Логика у него очень извилистая. Как русло Куры.
— Куры? — удивился Михоэлс. — Молотов, насколько я знаю, из Вятки.
Лозовский только рукой махнул:
— Какая Вятка? Какой Молотов? Мы все время говорим не о Молотове, а о Сталине!.. Как возник в этом деле Шимелиович?
— По чистой случайности. Он привез статью для «Эйникайта» о Боткинской больнице. Мы как раз сидели у Эпштейна, обсуждали, как лучше составить обращение. Я решил, что его совет не помешает. Он человек опытный. И свой — член президиума комитета. Это было ошибкой?
— Кто может заранее сказать, что ошибка, а что не ошибка!
— Все равно нам не удастся держать обращение в секрете. Его нужно обсудить и одобрить на президиуме ЕАК. А это значит, что на следующий день об этом будет говорить вся Москва.
— Налей-ка мне кофе, — попросил Лозовский. Взял из рук Михоэлса фаянсовую чашку с отбитой ручкой, сделал глоток. — Желудевый?
— Пополам с цикорием. Где сейчас в Москве найдешь настоящий кофе!
Лозовский поставил чашку на стол и решительно произнес:
— Вы не будете обсуждать обращение на президиуме.
— Но позволь…
— Есть подписи: председатель президиума, заместитель председателя, ответственный секретарь. Этого достаточно. Пока. А там видно будет.
— Объяснишь?
— Попробую. Кто входит в президиум?
— Ты всех их прекрасно знаешь.
— А ты повтори. Начни с себя.
— Ну, Михоэлс.
— Соломон Михайлович. Народный артист СССР, кавалер ордена Ленина. Рост — низкий. Телосложение — крепкое. Плечи — опущенные. Шея — короткая. Лоб — высокий. Брови — дугообразные, широкие.
— Что это за поэма в прозе? — удивился Михоэлс.
— Словесный портрет.
— По такому портрету в жизни никого не поймаешь.
— По такому портрету никого и не ловят. Его составляют, когда арестованного привозят в тюрьму.
— А ты откуда знаешь?
— Сиживал-с.
— У нас?
— Бог миловал. Еще в царской тюрьме. Но эта практика сохранилась и в наших тюрьмах. В том числе и во внутренней тюрьме Лубянки.
— К чему ты мне это рассказал?
— Не понял? — спросил Лозовский. — Тогда продолжай список президиума.
— Борис Абрамович Шимелиович.
— Профессор, главный врач Боткинской больницы, крупнейшей и лучшей в стране.
— Вениамин Зускин.
— Народный артист РСФСР. Лучший актер ГОСЕТа. Не считая тебя.
— Считая.
— Еще?
— Лина Соломоновна Штерн.
— Академик, директор Института физиологии Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии.
— Перец Маркиш. Самуил Галкин. Лев Квитко. Давид Гофштейн.
— Лучшие еврейские поэты.
— Давид Бергельсон.
— Лучший еврейский прозаик… Продолжать? Или сам все понял?
— Что я должен понять? — спросил Михоэлс. — Что в президиуме комитета весь цвет еврейской интеллигенции? Я давно это знаю.
— И я это знаю. Так вот давай их побережем.
Михоэлс нахмурился.
— Что ты этим хочешь сказать?
Лозовский оглядел просторную, заставленную книжными шкафами и кроватями комнату. На одной из стен висела карта СССР. По западной границе теснились красные бумажные флажки на булавочных иголках. Лозовский тяжело поднялся, подошел к карте. Кивнул Михоэлсу:
— Иди сюда… Кстати, эти флажки можешь переставить. Этот и этот.
— Да ну? — обрадовался Михоэлс. — Еще чуть, значит, и будет Брест и Одесса! А Крым?
— Дойдет очередь и до Крыма, совсем недолго осталось. Посмотри-ка внимательно на Крым. Что ты видишь?
— А что я должен видеть? Черное море. Крым. Всесоюзная здравница.
— Крым не только всесоюзная здравница. Это еще и плацдарм. Турция. Ближний Восток. Балканы. Босфор. Выход в Адриатику. Севастополь, база Черноморского флота. И все это отдать евреям?
Михоэлс напряженно всмотрелся в хмурое лицо Лозовского.
— Соломон Абрамович… ты понимаешь, что ты сказал?
Лозовский не ответил.
— Нет. Этого не может быть.
— Может.
— Значит, по-твоему, Крым — ловушка? Вся эта история с еврейской республикой — западня?.. Соломон Абрамович, ты просто сошел с ума. Хотя по твоему виду не скажешь. Но ведь на сумасшедших не обязательно написано, что они сумасшедшие?
Лозовский вернулся за стол, наполнил стопки, чокнулся с Михоэлсом и поставил нетронутую стопку на клеенку.
— Как ты думаешь, Соломон Михайлович, зачем я сегодня к тебе пришел?
— Выпить водки.
— Нет.
— Поделиться тревогой.
— Нет.
— Тогда не знаю. Зачем?
— Чтобы ты меня разубедил. Чтобы ты доказал, что я не прав. Что я сошел с ума. Ну? Разубеди меня! Или хотя бы попробуй!
— Крым — западня. Допустим. Какая?
— Мы об этом можем только гадать.
— Это может быть картой в его игре с Западом.
— Может, — согласился Лозовский.
— Почему мы должны обязательно предполагать самое худшее?
— Потому что мы евреи.
— Нас пять миллионов в Советском Союзе. И еще двадцать по всему миру.
— Сколько у нас дивизий?
— Каких дивизий? — не понял Михоэлс.
— Папа римский однажды выразил ему протест. По поводу разрушения костелов в Западной Украине. Он спросил: «Папа римский? А сколько у него дивизий?»
— Мы не должны лезть в эту ловушку. Мы просто не пошлем никакого обращения. Давай экземпляры. Сожжем их в ванне вместе с копиркой. И забудем об этом. Ничего не было!
Лозовский покачал головой:
— Пошлем. В шахматах есть термин: цугцванг. Вынужденный ход. Ему нужно это обращение. Он его получит. У нас нет выбора.
— Что же делать?
Лозовский усмехнулся:
— Это ты у меня спрашиваешь?
— А у кого мне спросить? Ты — старший товарищ. Очень большой начальник. Член ЦК. Я не спрашиваю у тебя, кто виноват. Я спрашиваю всего лишь: что делать?
— А как сам бы ответил?
На лице Михоэлса появилась растерянная улыбка.
— Не знаю… Жить. Делать, что в наших силах. Верить, что если Всевышний решит послать нам испытание, то даст и силы его выдержать. И надеяться на лучшее.
— Не разубедил ты меня, Соломон Михайлович. Но слегка успокоил. Может, все действительно не так плохо? Будем надеяться. Вот за эту надежду давай и выпьем!..
В длинном коридоре, глядя, как Лозовский влезает в свое бронебойное пальто, Михоэлс спросил:
— По Москве слух. Про Довженко. Это правда?
— Да.
— Взяли?
— Вроде нет.
— Он в Москве?
— Да, у родственников. Хочешь позвонить?
— Что значит хочу или не хочу?
Заперев за гостем дверь, Михоэлс прохромал в комнату, отыскал пухлую телефонную книжку. Вернувшись в коридор, при свете тусклой лампочки на четырехметровой высоте потолка нашел нужную страницу и набрал номер. Ответил женский голос:
— Алло!
— Могу я поговорить с Александром Петровичем Довженко?
Замер, вжав в ухо черный эбонит телефонной трубки. Услышал мужской голос:
— Да. Кто это?
Сказал:
— Здравствуйте, Саша. Это Михоэлс…
Когда Анастасия Павловна вернулась со службы, она застала мужа с безучастным видом сидящего на табуретке возле телефонного аппарата.
— Что-то случилось?
Он покачал головой:
— Нет.
— Кому ты звонил?
— Довженко.
— Он… ответил?
— Да.
— Слава тебе, Господи. Что ты ему сказал?
— Что я мог ему сказать? Сказал, что просто подаю голос.
— Слава тебе, Господи, — повторила Анастасия Павловна. — Ты голодный? Я сейчас разогрею макароны.
— Не нужно. Приходил в гости Лозовский, принес кучу еды.
— Приходил — в гости — Лозовский?
— Чего тут удивительного?
— Он не был у нас с тридцать девятого года. С того дня, когда мы обмывали твой орден Ленина.
— Вот и объяснение. Соскучился и заехал. Сказал, что сегодня будет салют.
— И это все, что он сказал?
— Ну, он много чего говорил. Но это — главное. Самое главное. Салют — праздник. А даже маленький праздник сегодня главней всех завтрашних бед. Даже больших. Разве это не так?
Вечером они стояли у окна и смотрели, как низкое февральское небо расцвечивается огнями салюта.
Анастасия Михоэлс-Потоцкая. Последняя из древнего рода польских князей. Русая. Курносая. Некрасивая. Прекрасная.
И маленький местечковый еврей с огромной лысиной и задумчиво оттопыренной нижней губой.
Они смотрели на салют и думали о будущем.
Будущее было ярким, как огни салюта.
И тревожным, как ночь.
«Совершенно секретно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ