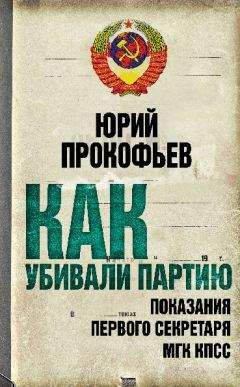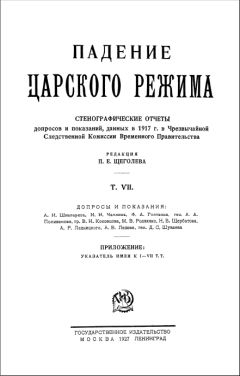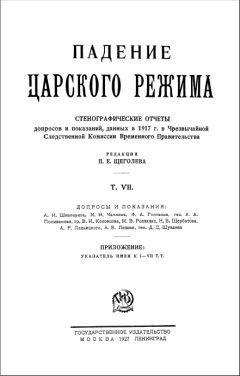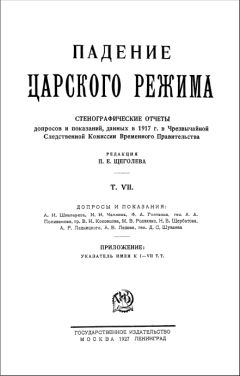— Он умирает.
Эпштейн умирал. Он лежал высоко на подушках, выпростав поверх одеяла руки, в окружении снующих по большой захламленной комнате женщин — маленькой, похожей на галку, жены, сестры жены, невестки, еще каких-то толстых еврейских женщин, то ли родственниц, то ли соседок по огромной, на двадцать с лишним комнат, коммунальной квартире. Крупное выразительное лицо его с обострившимися чертами было спокойным, почти обычным, а руки не одеяле — желтыми, обтянутыми словно бы пергаментной кожей, неподвижными.
Мертвыми.
— Спасибо, что пришли, — проговорил он, когда Михоэлс отдал шубу одной из теток и опустился на расшатанный венский стул, пристроив между коленями трость. — Вас привез Иван Степанович?
— Да.
— Значит, так будет и написано в рапорте: «В двадцать два пятнадцать Михоэлс приехал в Марьину Рощу к проживавшему там Эпштейну и разговаривал с ним двадцать минут. Содержание разговора зафиксировать не удалось». Да, двадцать минут. На столько еще хватит укола. Не перебивайте меня, Михоэлс. И не говорите, что я хорошо выгляжу. Я знаю, как я выгляжу.
— Что сказал Шимелиович? — спросил Михоэлс.
— Когда? Когда меня выписывали, он сказал: «Мы еще будем танцевать с вами фрейлехс на свадьбе Сонечки». А во время операции… Какой-то странный мне дали наркоз. Я ничего не чувствовал, но почти все слышал — как сквозь вату. Когда что-то у меня на животе сделали, он сказал: «Твою мать! Зашивайте». И это все, что он сказал. И этого было вполне достаточно. У меня рак желудка, Михоэлс. Это данность. Поэтому не будем тратить на это время. Вы не удивились моей просьбе приехать?
— Нет.
— Почему? Мы не были с вами друзьями. Мы даже водки с вами ни разу не пили.
— Это можно исправить.
— Поздно. Мне нужно сообщить вам нечто чрезвычайно важное. Но прежде хочу сказать, что я всегда глубоко уважал вас. Не только как артиста. Как человека. Я говорю в прошедшем времени не о вас. О себе.
— Я тоже вас глубоко уважаю, Шахно. Мне всегда было досадно, что вы тратите себя на редакционную текучку. У вас были прекрасные критические статьи. Даже когда вы ругали мои спектакли, их было интересно читать. А когда хвалили — и подавно. Умно ругать многие умеют. Умно хвалить — мало кто. По дороге к вам я вспоминал ваши слова о «Путешествии Вениамина». «Этому спектаклю уготована долгая жизнь. Он будет мужать, как человек, набираться мудрости, как человек. А когда он умрет, его будут вспоминать, как человека». Вы были правы. Сегодня мы сыграли «Вениамина» в четыреста шестой раз. Это совсем другой спектакль.
— Скоро конец войны. Вы придумали, что будете ставить к празднику победы?
— «Фрейлехс» Шнеера.
— Фрейлехс. Еврейский свадебный танец. Это не очень веселая пьеса.
— Это будет не очень веселый праздник. Он будет радостный. Но невеселый.
— Вы помните, кто такой Джон Глостер?
— Что-то из времен Шекспира? — не слишком уверенно предположил Михоэлс. — То ли лорд, то ли граф?
Эпштейн прикрыл глаза в знак согласия.
— Да. Лорд Глостер. Граф Вестминстерский. Всемогущий и всемилостивейший. Мелкий политический деятель во времена Шекспира. Скажут ли когда-нибудь так о Сталине? Какой-то мелкий политикан во времена Михоэлса.
— Нет.
— Во времена Прокофьева и Шостаковича? Бабеля и Мандельштама? Мейерхольда и Таирова?
— Нет. Он уже обеспечил себе место в истории. Рядом с Чингисханом и Гитлером. Рядом с ними не могло быть Шекспира.
— Вам никогда не хотелось сыграть его роль?
— Шекспира?
— Сталина.
Михоэлс помедлил с ответом.
— Вы третий, кто меня об этом спрашивает.
— Кто были первые двое?
— Одна — девочка из моей студии. Второй — я сам.
— Что вы ответили себе?
— Иногда это кажется интересным. Но в общем… Нет, не хотел бы. — Михоэлс подумал и уверенно повторил: — Нет.
— Вам придется ее сыграть.
Эпштейн надолго умолк. Он смотрел прямо перед собой. В никуда. На одеяле лежали его мертвые руки. Начиналась трагедия. Она возникла из вьюжной ночной Москвы, из суматошного быта коммуналки. Она всегда возникает, когда рядом объявляется третий. Смерть. Вечность. На краю вечности любая фраза обретает многозначность трагедийного монолога. Любая. Самая пустяковая. «Завтра будет дождь». «Вчера в трамвае я потерял галошу». «В этой Африке сейчас, наверное, чертовски жарко».
— Вы счастливый человек, Михоэлс, — вновь заговорил Эпштейн. — Вы умудряетесь быть свободным даже в нашей рабской стране. Где не свободен и сам Сталин. По-моему, вы даже не чувствуете себя евреем.
— Иногда чувствую.
— Мне жаль, но ваша свобода закончилась. Отныне вы всегда будете чувствовать себя евреем. Отныне. Какое высокопарное слово.
— Оно точное.
— Да. Отныне и навсегда. Каждое заседание президиума ЕАК стенографируется. Протокол делается в двух экземплярах. Записывается адрес каждого человека, который пришел в комитет. Который написал письмо. Все авторы «Эйникайта». Тексты всех статей, даже заметок. Копии всех писем. Все разговоры. Не перебивайте меня, Михоэлс. Скоро кончится действие укола. И я ничего не смогу сказать. Впрочем, я уже почти все сказал. Вы поняли, куда это все идет?
— Да.
— Вы об этом догадывались?
— Я об этом не думал. Если бы дал себе труд подумать, догадался бы. Это не очень трудно.
— Вы не хотите спросить, откуда я это знаю?
Михоэлс подумал и покачал головой:
— Нет, Шахно. Не хочу.
— О Фефере — знали?
— Почти наверняка.
— А обо мне?
— Нет. И не хочу знать. Это не ваша вина. Это ваша беда.
По безучастному лицу Эпштейна скользнула тень усмешки.
— Иногда удобно быть евреем.
— Не более удобно, чем русским, — возразил Михоэлс. — Это могло случиться с каждым.
— И с вами?
— Может быть, и со мной. Когда это началось? После нашего обращения о Крыме?
— Хуже, Михоэлс. Гораздо хуже. Это началось с самого первого дня. С того момента, когда был создан ЕАК. Еврейский антифашистский комитет. Мы считали, что главное слово — антифашистский. Нет. Главное слово здесь — еврейский. Только не спрашивайте: почему. Это слишком общий вопрос. Спрашивайте: зачем.
— Зачем? — спросил Михоэлс.
— Вот на этот вопрос вам и придется ответить самому. Для этого и придется сыграть роль Сталина. Влезть в его шкуру. Я не завидую вам, Михоэлс. Это страшная роль. Но вы обречены на нее.
Возникла жена Эпштейна.
— Извините, Соломон Михайлович. Пора делать укол.
— Уйди, — попросил Эпштейн. — У меня есть еще две минуты.
Она исчезла. Растворилась в мусоре быта, из которого вырастает все. Чаще — драма. Реже — трагедия. Еще реже — комедия.
— На улице снег? — спросил Эпштейн.
— Да, снег.
Две минуты закончились.
— Прощайте, Михоэлс.
— Прощайте, Шахно.
Михоэлс встал.
— Еще. Секунду, — попросил Эпштейн. — Когда мы. Снова. Встретимся. Там… Расскажете. Чем все. Закончилось.
— Да, расскажу.
— А теперь. Уходите.
Михоэлс ушел.
Ася не спала, ждала. Молча взяла трость. Помогла снять шубу. Поняла, что он не хочет ничего говорить. Сама спросила:
— Зускин позвонил, сказал, что ты поехал к Эпштейну. Как он себя чувствует?
— Не знаю.
— Зачем он хотел тебя видеть?
— Хотел побыть свободным человеком.
— Ему это удалось?
— Да. Он был свободным. Примерно двадцать минут.
— О чем же говорят свободные люди?
— Как ни странно, но это не имеет значения. Он спросил, идет ли на улице снег. Я сказал: да, идет…
Завтра будет дождь.
Вчера в трамвае я потерял галошу.
В этой Африке сейчас, наверное, чертовски жарко!..
«Только что свершилось! Только что оно родилось и стало быть! Всего минуты, как произнесено слово, которого ждали народы, страны мира, человек. Его ждали в жестокой войне годами, его добывали в мужественнейших испытаниях, его высекали огнем, его добивались жертвой, отвагой, геройством, которых не знала история. Оно приобретено великим подвижничеством людей-героев и запечатлено, записано кровью навеки.
Война в Европе окончена. Германия побеждена, разбита. Германия, пораженная, побежденная, лежит распростертая в собственном фашистском позоре, лежит распластанная у ног победителей.
Победители — это великая коалиция демократических свободолюбивых народов Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании.
Победа! Небывалая победа! Небывалая не только количественно. Небывалая не только по своему размаху, по обширности территорий, на полях которых она завоевывалась, в городах и селах которых она утверждена!
Не только в этом ее великий исторический смысл!