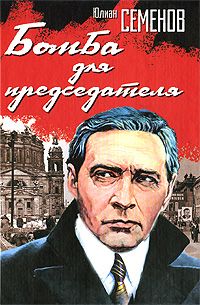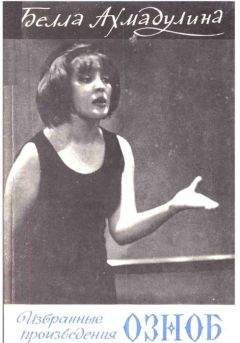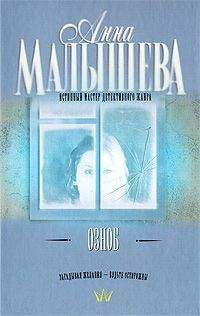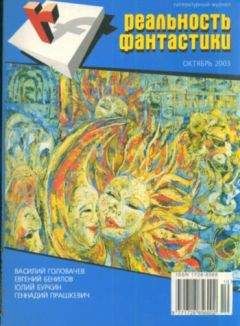— Кнопка в ваших руках, а испытания в чьих?!
Бауэр вздохнул:
— Ганс, вы сосредоточиваете внимание на второстепенных, хотя и крайне болезненных, вопросах… Так нельзя. Если бы вы предложили разумную альтернативу сегодняшнему статус-кво в мире, я бы пошел за вами. Но идти все-таки придется вам за мной.
Бауэр потянулся и цыкнул зубом. Если бы он ушел сразу же, без этого цыканья и не потягиваясь лениво и снисходительно, Ганс, возможно, не стал бы звонить сначала к Люсу, а потом, заметавшись, к болгарину из Москвы. Но у него не было выхода: послезавтра Бауэр вылетает в Гонконг, а там Ганс ему не сможет помешать.
Болгарин еще не уехал. Ганс позвонил по оставленному болгарином телефону и передал, что он с радостью увидит господина Павла Кочева в «Ам Кругдорфе» вечером, часов в одиннадцать.
«Пусть, — решил Ганс. — Черт с ними! Я ударю с двух сторон. Где выйдет. Я предложу Люсу войти в драку; если я дам имена, места и шифры, мир возмутится, и моему старику придется отступить. Болгарин — подстраховка. Откажись Люс — я разрешу болгарину опубликовать мои данные».
После этого Ганс уехал в институт медицины, чтобы обсудить болезнь Исии и разработать курс лечения. Ганс рассчитывал отправить к ней врачей в течение этой недели, а следом за ними вылететь в Токио самому… А уж после этого отправился домой. После двухчасового объяснения с отцом он поехал в ресторан «Ам Кругдорф», а оттуда — к Люсу.
…Последние годы Фридрих Дорнброк жил по методу «минутного графика». Об этом ему рассказал Дюпон. «Знаете, — говорил Дюпон, — мне девяносто восемь, но я не ощущаю возраста. Надо подчинить себя времени. Вам, немцу, это сделать значительно легче, чем мне, американскому французу». — «Я живу во времени, — ответил тогда Дорнброк, — у меня расписан каждый час, смешно было бы нам жить как-то иначе». — «У вас расписаны часы, и это плохо, — сказал Дюпон. — Это проигрыш во времени. Надо расписать день по минутам. Когда у меня впервые сорок лет назад отекли ноги, я подумал: „Эге, это уже симптом. Молодость кончается“. А наша мужская молодость действительно кончается к шестидесяти годам. Начинается зрелость, которая не имеет, права перейти в старость. Я встаю каждое утро — вот уже сорок лет — ровно в семь тридцать. Две-три минуты я лежу в кровати и счастливо ощущаю себя. В семь тридцать три ко мне без стука входит массажистка. Клаудиа работает у меня сорок лет, — пояснил Дюпон. — Она мнет меня час. В это время я подремываю, а когда Клаудиа начинает мять мне шею и работать над позвоночником, чтобы разогнать соли, дрема проходит. Я в это время помогаю ей: думаю о чем-то извечном. О море или небесах. Или о том, как хорошо в этот час в густом сосновом лесу. В восемь тридцать четыре я ложусь в ванну с сосновым или морским экстрактом. Там уже приготовлены газеты: секретарь по прессе отчеркивает для меня красным карандашом все курьезы, детективные штучки и небольшие полуэротические рассказы в рисунках Пэта Ноя. В девять я сажусь к столу. Я ем только овсяную кашу без молока и двести граммов вареной телятины. Чашка зеленого чая. В девять пятнадцать я выхожу из дому и совершаю сорокапятиминутную прогулку по саду. В десять — отъезд в банк. До двенадцати я слушаю заключения экспертов по промышленности, сельскому хозяйству, бирже и по внутриполитическому положению. Затем полчаса новости из-за рубежа. В это время я лишь слушаю и не позволяю себе задавать вопросы или выдвигать предложения. После того как все новости изучены, в двенадцать тридцать две — второй ленч. Триста граммов вареной глубоководной рыбы — без соли, пять сырых яиц перепела — великолепная профилактика от склероза, чашка кофе, ломтик сыра. В тринадцать — подвожу итоги полученной информации, выдвигаю несколько гипотез и прошу перепроверить их в нашем бюро электронного вычисления. Причем я не позволяю себе идти вразрез с мнением моих экспертов, ибо они молодые люди, они заинтересованы в деле, поскольку вошли в правление, а не остались служащими. Но они не изучали латыни, — улыбнулся Дюпон. — И лишь знание предмета позволяет мне выдвигать гипотезы — ничего больше. К тринадцати тридцати мы получаем из вычислительного центра анализ первых двух часов работы биржи и принимаем решения. В четырнадцать часов я начинаю прием иностранных представителей. В пятнадцать часов я уезжаю к себе и полчаса плаваю в бассейне. До семнадцати часов — предобеденный сон. В семнадцать — полстакана крепкого бульона; я не верю, что бульон — это зло, как утверждают некоторые медики… Они видят в бульоне некий суррогат, абортируемый мясом, насквозь пронизанный „органическими ненужностями“. Утренняя еда римских императоров предполагала стакан бульона, а древние были умнее нас. После бульона — пятиминутная беседа с женой. Потом слегка обжаренная дичь с вареньем из кислой сливы, пятьдесят граммов икры с лимоном и два индийских абрикоса. В девятнадцать тридцать — две партии в шахматы с моим садовником, мсье Бикофф. В двадцать часов ко мне приезжает помощник по внешнеполитическим вопросам, и мы работаем до двадцати тридцати. В двадцать тридцать — вечерний чай. В двадцать один — полчаса чтения. Плутарх или Флеминг. В двадцать один тридцать я ложусь в постель. В двадцать два я сплю. И время не может сыграть со мной свою обычную штучку. Я не отдаю времени — время. То, что я сегодня нарушил график, рассказывая о своей системе, свидетельствует о моем самом добром отношении к вам, Дорнброк. Не считайте только, что, следуя системе, я жертвую чем-то. Я любил выпить, но я и сейчас позволяю себе коктейль по субботам, в девятнадцать пятьдесят, после одной партии с мсье Бикофф. Ожидание этого коктейля все дни недели — это тоже стимул. Я не знаю, что слаще — запретный плод или ожидание, когда ты его вкусишь. Раз в месяц, по воскресеньям, — концерт. Я ломаю график, если гастролируют Менухин, Рихтер или Армстронг, — я преклоняюсь перед искусством великих. И последнее: лишите себя воскресенья, Дорнброк. Это страшный день. За один этот день человек стареет не на минуты или часы, он стареет в этот отвратительный день всеобщего лицемерия на день, да, да, на целый день! До свидания, Дорнброк».
Бауэр не поверил своим глазам, когда подъехал к громадному, мрачному, обнесенному глухим забором особняку Дорнброка: в кабинете старика горел свет. Такого не случалось вот уже пятнадцать лет.
— Не удивляйтесь, — сказал Дорнброк, увидев Бауэра. Он был одет и неторопливо расхаживал из угла в угол громадной, почти совершенно пустой комнаты — лишь стол, тахта, два кресла и большие портреты жены и старшего сына Карла, погибшего в последний день войны. — Я не сплю с тех пор, как вернулся Ганс. Видимо, и вы приехали ко мне в связи с его состоянием?
— Да.
— Он ушел к Ульбрихту?
— Пока нет. Но он все рассказал Кочеву.
— Все? Абсолютно все?
— Да.
— Красный уже дома?
— Еще нет, господин председатель.
— Где Ганс?
— Он у режиссера Люса.
— Люс тоже дома?
— Нет, он в другом месте, а оттуда улетает в Ганновер.
— Едем, — сказал Дорнброк. — Я готов.
Бауэр сидел во второй комнате и прислушивался к разговору отца и сына. Старик так же, как и дома, расхаживал из угла в угол.
— Пойми, Ганс, не я, не мои компаньоны, не Бауэр проиграют, если ты будешь стоять на своем. Проиграют миллионы людей, которые доверили нам свои сбережения, которые купили акции, которые положили деньги в наши банки. Проиграют рабочие наших заводов, словом, проиграют немцы… немцы, наши с тобой сограждане. Молодости свойствен эгоцентризм. Ты смотришь на себя со стороны, ты не хочешь смотреть на себя как на человека, принимающего участие в громадном деле… Ты, я надеюсь, не веришь пока еще, что я работаю во имя личного обогащения? Ты ведь знаешь мои требования к жизни: овсяная каша и чашка бульона. Я работаю и живу во имя нации, во имя будущего Германии, во имя будущего Европы, во имя будущего твоих детей, Ганс…
— Моих детей? — переспросил Ганс. — Вот как?
— Ганс, если ради твоей жизни…
Ганс перебил его:
— Знаю, папа… Знаю… Ты отдашь свою жизнь без колебаний. Я слышал это. Я о другом. Неужели думать о будущем нашей нации следует, лишь убивая людей?
— Убивая людей?! О чем ты?! У тебя плохо с нервами!
— Где красный?
— Какой красный?
— Спроси Бауэра. Или людей из бюро Айсмана. Красный должен был позвонить мне. Если он не звонит, значит, его тоже убили.
— Кого еще убили, Ганс? О чем ты? Кто кого убил?
— Меня убили! Ты меня убил! — закричал Ганс. — Своей борьбой «за светлое будущее нации»! «Политики не в состоянии обеспечить будущее нации!» Ты ведь так говоришь! «Они обрекают Германию на положение второразрядной державы! Нашим генералам позволяют командовать танковыми маневрами, а кнопки в руках американцев! Кто пустит нас испытывать свое оборонительное оружие в Сахаре? Французы?! Американцы? Или англичане в Тихом океане?! Союз униженных спасет нас! Полигон в Азии или Южно-Африканской Республике, или Израиле, — во имя будущего!» Это ты внушал мне все время! И от радиоактивных осадков снова гибнут люди! И умирает та, которую мне послал бог!