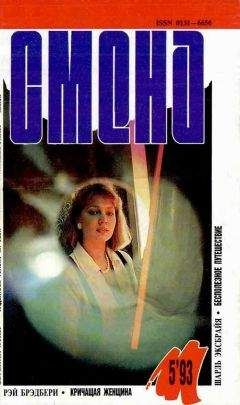Шарль Эксбрайя
Бесполезное путешествие
Возвращаясь в тот вечер в свою квартиру на улице Боннвилль в Уайонаксе, я был счастлив, так как мог сообщить Луизе, моей жене, приятную новость. Администрация завода по производству пластмассы, на котором я работал, решила значительно увеличить мне жалованье. Это позволило бы нам вести легкую и спокойную жизнь, тем более что, несмотря на десять лет совместной жизни, ребенка у нас не было.
Не успев закрыть за собой дверь нашей квартиры, я крикнул:
— Луиза!
Никакого ответа.
— Луиза!
Я нашел ее в спальне, она была одета так, словно собиралась уходить. На кровати лежали два открытых чемодана. Я замер от изумления.
— Но, Луиза… Что происходит?
Она смотрела на меня полными слез глазами.
— Скажешь ты мне наконец?..
— Я больше не могу, Мишель, я ухожу.
— Уходишь?
— Ты чуть не убил меня прошлой ночью… Не могу больше переносить твои приступы… Я боюсь, Мишель, и не хочу больше жить с тобой. Я ухожу.
— Уходишь… Ты оставляешь меня, Луиза… Ты?
— Я держалась в течение десяти лет, Мишель… Но теперь все кончено.
— Ты отдаешь себе отчет в том, что без тебя я пропаду?
— Я не могу больше приносить себя в жертву… Хочу жить нормально. Прости меня.
— Куда ты идешь?
— Какая разница? Я не вернусь, Мишель. Потребуешь развода сам, заяви, что я ушла из дома… Знаю, как ты дорожишь своей работой, и не хочу, чтобы там поняли истинную причину моего ухода.
— Истинную причину… Это мужчина?
— Клянусь тебе, нет.
— Может быть, немного подождешь?
— Я ждала десять лет.
— Вдруг я поправлюсь?
— Ты отлично знаешь, что нет.
Шум захлопнувшейся двери еще долго звучал у меня в ушах. В тот вечер я распрощался с молодостью и потерял вкус к жизни. Горе мое было безгранично, но обижаться на Луизу я не мог. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить с больным, а я тяжко болен.
В январе 1944 года мне исполнилось двадцать четыре, и вот уже четыре года я был женихом Луизы — подруги детства.
Стоило закрыть глаза, и передо мной вставали картины детства, воскресные дни, когда все жители нашего городка отправлялись в сосновый лес, разводили костры, жарили колбасу и телячьи отбивные, пили вино. Играл оркестр, молодежь танцевала, впрочем, не только молодежь…
Мне никогда не забыть Ла Бретуз…
В январе 1944-го я партизанил в Сюр-ле-Мон, над Роше де Нантуа. Однажды мы напоролись на немцев. Если бы не Пьер Сандрей, я попал бы к фрицам, потому что меня прошила автоматная очередь. Каким образом я выжил, неизвестно. Две пули угодили в грудь, одна — в живот и одна — в голову. Пьер отдал мне все бинты, которые удалось найти, взвалил на плечи и вместе с друзьями стал отходить к Беллейду. Меня прооперировал какой-то хирург-волшебник: вы, вероятно, догадываетесь, в каких условиях ему приходилось работать. Он не смог извлечь только пулю, попавшую в голову. Она засела в мозгу таким образом, что, вмешайся он, девяносто девять шансов из ста, я отправился бы на тот свет. Я вернулся с войны живым, но значительно похудевшим, кроме того, меня мучили приступы. Иногда стали случаться выпадения памяти, а перед ними чудовищные мигрени. Я терял представление о времени. Жизнь моя останавливалась, но, придя в себя, я ничего не помнил.
Мы с Луизой разошлись. Она уехала в Бордо, чтобы начать жизнь сначала. Я отправился в Париж и стал заниматься уже не пластмассой, а скобяными изделиями… Минуло десять лет…
Десять лет полного спокойствия. Я жил словно на обочине жизни. Я не забыл Луизу, но смирился: старательно исполнял свою работу, правда, время от времени приходилось брать двухнедельный отпуск из-за приступов, в которых по-прежнему никто ничего не понимал. Мой хозяин провел полгода в Освенциме и поэтому с пониманием относился ко мне, стараясь по возможности помочь.
В апреле я почувствовал приближение нового приступа и, как всегда, отправился в Уайонакс. Воздух родины благотворно влияет на мои нервы, кроме того, я обычно останавливаюсь у Пьера Сандрея и его жены, а они трогательно заботятся обо мне. Пьер вот уже пять лет служит в Уайонаксе комиссаром полиции.
Из-за пули, засевшей в голове, я не вожу машину, поэтому, чтобы попасть в Уайонакс, я, как и мои предки, решил воспользоваться железной дорогой и около часа дня прибыл в родной город. С чемоданом в руке я не спеша поднялся по улице Мишеле к «Отель де ля Репюблик». Это была очень старая гостиница, и я не сомневался, что там меня ждет столь необходимый сейчас покой. Хозяева были в курсе всех моих неприятностей, как физических, так и духовных, и проявляли ко мне трогательную симпатию.
В этот день, как и всегда, я отправился в «Кафе де Франс», где встретил многих своих знакомых. Мои одногодки стали чиновниками, инженерами, рабочими, а те, кто не работал на государство, служили на пластмассовом производстве — гордости и богатстве Уайонакса. Мы много говорили о прошлом и настоящем и очень мало — о будущем, потому что для большинства людей будущее тесно связано с медленным подъемом по иерархической лестнице и увеличением зарплаты. Поэзия осталась в прошлом, в тех годах, когда мы сражались, уверенные, что должны изменить мир. Годы иллюзий…
Около пяти вечера я распрощался с друзьями и по длинной улице Анатоля Франса пошел к комиссариату, где рассчитывал встретиться с Пьером.
Все полицейские Уайонакса знают меня, а многие из них называют по имени: Мишель. Молодые же здороваются со мной, называя по фамилии: мсье Феррьер.
Когда я вошел в кабинет, Пьер спорил с офицером полиции Оноре Вириа, неприязнь к начальству которого служила постоянной темой для разговоров. Пьер ничуть не изменился, в свои сорок пять он выглядел так же хорошо, как и в двадцать пять, когда его взгляд с поволокой смущал сердца добропорядочных барышень Уайонакса. Все были очень разочарованы, когда он выбрал Каролину Барби, дочь картонажника.
Пьер дружески похлопал меня по плечу.
— Как дела, Мишель?
— Все по-старому.
— Но ты приехал не потому?..
— Увы! Потому…
— Хорошо, что приехал, старина. Мы с Каролиной серьезно займемся тобой. Вы можете идти, Вириа.
— Не стоило уточнять, господин комиссар, — язвительно ответил тот, — я достаточно умен, чтобы понять, когда мое присутствие нежелательно.
— У вас все в порядке, мсье Вириа? — обратился я к нему.
— Нет, мсье Феррьер, не все, но я не думаю, что это может кого-нибудь заинтересовать.
Он вышел, громко хлопнув дверью. Пьер расхохотался.
— Видишь, этот осел Оноре не меняется. Он по-прежнему меня ненавидит!
— Но… почему?
— Уверен, что я занял его место, если бы не я, комиссаром полиции был бы он. Ну, ладно, хватит говорить об этом придурке. Поужинаешь у нас, мы ждем гостей, я позвоню Каролине и скажу, чтобы приготовила еще один прибор.
— Нет, если можно, сегодня я не приду.
— Что?
— У меня началась мигрень, наглотаюсь лекарств и пораньше лягу спать… Не хочу, чтобы приступ случился у тебя…
Он ответил не сразу, но его рука крепче сжала мое плечо.
— Я зайду к тебе завтра утром… Ты остановился в «Отель де ля Репюблик»?
— Конечно.
— Предупреждаю: если завтра днем ты не придешь, мы с Каролиной силой утащим тебя к нам. Так что, если хочешь сохранить свободу, выздоравливай побыстрей, ладно?
Может быть, благодаря теплому приему Пьера, выходя из комиссариата, я почувствовал, что голова болит меньше, и почти уверился, что на сей раз дело обойдется банальной мигренью. Чтобы окончательно в этом убедиться, я решил зайти к одному приятелю, Шарлю Эбрею, он работал на почтамте.
Я снова оказался на улице Анатоля Франса — в этом городе, куда бы ты ни шел, все равно попадешь сюда, — и уже почти дошел до небольшой площади, где расположен почтамт, как увидел идущую впереди меня женщину. Сам не знаю, почему она привлекла мое внимание. Возможно, своим изможденным видом, хотя чемодан в ее правой руке, судя по объему, не был особенно тяжелым. Я пошел за ней, не думая ни о чем, кроме того, что ее отчаяние сближает нас. Девушка вошла в здание почтамта, не обратив на меня никакого внимания, а я, стоя позади, услышал, как она обратилась к служащему в окошке «Корреспонденция до востребования» с вопросом:
— У вас ничего нет для меня?
Наивность вопроса и тон, которым он был задан, заинтриговали служащего, и он поднял голову, чтобы рассмотреть странную клиентку. Тихо, почти нежно, если так можно выразиться в подобном случае, он спросил:
— На какое имя?
— Сесиль Луазен.
— Нет, ничего, мадемуазель… — огорченно ответил парень.
По щекам девушки потекли слезы. Не люблю любовных историй и не верю в них, но плачущие девушки волнуют меня. Я успел заметить, что моей незнакомке не более двадцати пяти лет. В ней была приятная свежесть и что-то очень симпатичное, хотя красивой, по сегодняшним канонам, установленным кинозвездами, ее не назовешь.