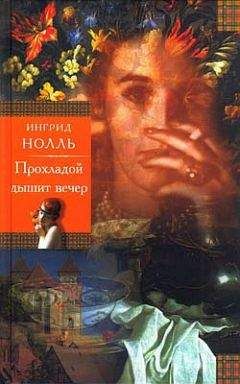— Когда?
Чем мягче делалась его собеседница, тем агрессивнее, раздраженнее и решительнее становился мужчина, начиная сознавать свои права.
— Примерно час назад.
— Подождать нас они не могли?
На глаза у него навернулись слезы: как бы там ни было, он беспокоился и, быть может, хотел чувствовать себя несчастным. Это, впрочем, не помешало ему чуть позже наброситься на бутерброды, которые молоденькие девушки разносили в больших корзинах по вагонам.
— А сколько можно взять?
— Смотря по аппетиту. В запас брать не стоит. На следующей станции вам дадут свежих.
Принесли горячий кофе в кружках. Прошла санитарка, спрашивая:
— Больные, раненые есть?
Рожки с сосками для малышей были наготове, в конце перрона стояла машина "скорой помощи". На соседнем пути поезд с фламандцами готовился к отправке. Они уже подкрепились и с любопытством следили, как мы поедаем бутерброды.
Семья Ван Стетенов — фламандского происхождения. Они обосновались в Фюме три поколения назад и уже не говорят на родном языке. Правда, на шахте моего тестя до сих пор называют Фламандцем.
— Внимание! По вагонам!
К этому времени нас задержали уже на два часа на всяческих станциях и запасных путях. Теперь же старались отправить как можно скорее, словно спешили от нас избавиться.
На перроне толпилось слишком много народу, и я не смог прочесть заголовки газет в киосках. Знаю только, что они были набраны жирным шрифтом и в них присутствовало слово «войска».
Поезд двинулся; молоденькая девушка бежала по перрону и раздавала остатки шоколада. Она бросила несколько плиток в нашу сторону. Мне удалось поймать одну для Анны.
Впоследствии нас встречали так же и в Реймсе, и в других местах. Барышник снова сел к нам в вагон; ему дали возможность умыться в привокзальном туалете, и он чувствовал себя героем. Я слышал, как Жюли назвала его Жефом. Он держал в руке бутылку «Куэнтро» и два апельсина, купленные в буфете; их запах наполнял весь вагон.
Где-то между Ретелем и Реймсом, ближе к вечеру, когда поезд шел довольно медленно, какая-то крестьянка встала и проворчала:
— Ладно! Болеть я не собираюсь.
Подойдя к открытой двери, она поставила на пол картонную коробку, присела над нею и сходила по нужде, все время что-то ворча сквозь зубы.
Это явилось своего рода сигналом. Приличия отошли в сторону, во всяком случае, те, что соблюдались еще накануне. Сегодня никто уже не протестовал, когда сонный барышник положил голову на солидный живот Жюли.
— У вас не найдется сигареты? — спросила Анна.
— Я не курю.
Курить мне запретили в санатории, а потом и желания такого никогда не возникало. Мой сосед протянул ей сигарету. Спичек у меня тоже не было; из-за соломы на полу курение Анны беспокоило меня, хотя среди тех, кто не спал, иные тоже курили. Быть может, с моей стороны это было нечто вроде ревности, какая-то необъяснимая досада.
Мы долго стояли в предместьях Реймса, глядя на дома вокруг; на вокзале нам объявили, что наш поезд отправится через полчаса.
Все устремились в буфет, туалеты и справочное бюро, но там никто понятия не имел о женщинах, детях и больных из поезда, который прибыл из Фюме.
В обоих направлениях непрерывно шли эшелоны с войсками, снаряжением, беженцами, и мне было непонятно, почему не происходит аварий.
— Может быть, ваша жена оставила вам записку? — предположила Анна.
— Где?
— Почему бы не спросить у этих дам? Она указала на медсестердевушек, встречавших беженцев.
— Как, говорите, ее зовут?
Старшая достала из кармана блокнот, где было записано множество имен — разными почерками, некоторые неумело.
— Ферон? Нет. Она бельгийка?
— Она из Фюме, с нею четырехлетняя девочка, у которой в руках кукла в голубом платьице.
Я был уверен, что Софи свою куклу не бросит.
— Она беременна — на восьмом месяце, — настаивал я.
— Посмотрите в медпункте, в таком состоянии она может неважно себя чувствовать.
Медпункт помещался в бывшей канцелярии, которая успела пропахнуть дезинфекцией. Нет. Туда поступило несколько беременных женщин. Одну из них пришлось срочно отправить в родильный дом, но звали ее не Ферон, и с нею была мать.
— Вы обеспокоены?
— Не очень.
Я заранее был уверен, что Жанна никакой записки не оставила. Это было не в ее характере. Ей никогда не пришло бы в голову побеспокоить одну из этих изящных дам, попросить записать свою фамилию, привлечь к себе внимание.
— Почему вы почти не вынимаете руку из левого кармана?
— Там у меня запасные очки. Боюсь их потерять или раздавить.
Нам снова раздали бутерброды и по апельсину на брата, принесли кофе, причем сахару можно было брать сколько угодно. Кое-кто сунул кусочек-другой в карман.
Заметив в одном углу груду подушек, я спросил, нельзя ли взять две, но мне ответили, что, мол, не знают, а нужной женщины нет, она вернется не раньше чем через два часа.
Немного неловко я взял две подушки, и, когда залез с ними в вагон, мои спутники отправились добывать подушки и себе.
Когда я теперь об этом думаю, меня поражает, что за весь долгий день мы перемолвились с Анной лишь несколькими словами, хотя, словно сговорившись, не отходили друг от друга. Даже когда в Реймсе мы с Анной разошлись в разные стороны, чтобы сходить в туалет, я обнаружил, выйдя, что она ждет меня у двери.
— Я купила мыло, — по-детски радостно объявила она.
От нее пахло туалетным мылом, волосы, которые она смочила, чтобы причесаться, были еще влажны.
Не помню, сколько раз до этого я ездил на поезде. Первый раз — в четырнадцать лет: я отправлялся в Сен-Жерве и мне вручили карточку с моим именем, пунктом назначения и следующей записью: "В случае аварии или каких-либо затруднений просьба обращаться к г-же Жак Дельмот, Арденны, Фюме".
Четыре года спустя, когда я возвращался домой, мне было восемнадцать и в такой бумажке я уже не нуждался.
Потом я лишь время от времени ездил в Мезьер — показаться специалисту и пройти рентген.
Люди говорили, что г-жа Дельмот — моя благодетельница, и в конце концов я тоже стал ее так называть. Не помню, как получилось, что она занялась мною. Это произошло вскоре после окончания войны 1914 года, мне не было тогда и одиннадцати.
Ей, должно быть, рассказали о бегстве моей матери, о поведении отца, короче, о том, что я, в сущности, брошенный ребенок.
В то время я часто бывал в патронате, и однажды в воскресенье наш викарий аббат Дюбуа сообщил мне,
что некая дама приглашает меня к себе на полдник в следующий четверг.
Как и все в Фюме, я знал фамилию Дельмотов, поскольку они были главными владельцами сланцевых шахт, и, соответственно, каждый в городе так или иначе от них зависел. Про себя я называл их Дельмотамихозяевами.
А вот пятидесятилетняя г-жа Жак Дельмот была Дельмот благодетельницей.
Все они находились между собою в родстве или свойстве, состояние у них первоначально было общее, но тем не менее они разделялись на два клана.
Кое-кто утверждал, что г-жа Дельмот стыдится жестокости своей семьи. Рано овдовев, она заставила сына выучиться на врача, но его убили на фронте.
С тех пор она жила с двумя слугами в большом каменном доме и всю вторую половину дня проводила р лоджии. С улицы было видно, как она вяжет очередное черное платье для приютских старух, украшенное узким воротом из белых кружев. Маленькая и розовая, она распространяла вокруг себя какой-то сладковатый запах.
В этой лоджии она меня и приняла: угостила чашкой шоколада с пирожными и принялась расспрашивать о школе, товарищах, о том, кем я хотел бы стать, и так далее. Избегая говорить о моих родителях, она поинтересовалась, не хочу ли я принимать участие в церковной службе, и в результате я два года был певчим.
Она приглашала меня к себе почти каждый четверг; иногда какойнибудь мальчик или девочка разделяли со мной угощение. Нам всегда подавали сухие домашние пирожные — светло-желтые лимонные или коричневые с пряностями и миндалем.
Я до сих пор помню запах этой лоджии, ее тепло зимой, не такое, как в других местах: оно казалось мне более неуловимым и обволакивающим.
Г-жа Дельмот навестила меня, когда я болел тем, что сначала приняли за сухой плеврит; в экипаже, которым правил Дезире, она отвезла меня в Мезьер показать специалисту.
Через три недели благодаря ей меня взяли в санаторий, куда без ее вмешательства ни за что бы не поместили.
Когда я женился, она подарила нам серебряную вазу, которая теперь стоит на буфете в кухне. Она лучше смотрелась бы в столовой, но столовой у нас нет.
Я думаю, что косвенно г-жа Дельмот сыграла важную роль в моей жизни, а в моем отъезде из Фюме приняла и непосредственное участие.
Самой ей уезжать не было необходимости: под старость она проводила это время в Ницце и теперь была уже там.