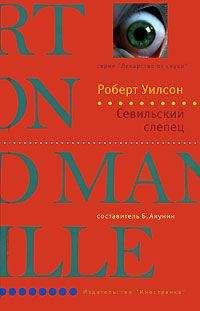— Вроде Элоисы.
— Да, — спокойно сказал Хулио. — Ахмед показал мне личное дело Марты, и, когда я прочитал письмо от психоаналитика Хосе Мануэля Хименеса, проект созрел.
— А откуда ты позаимствовал идею убивать людей?
— От вас, когда узнал, что вы старший инспектор отдела по расследованию убийств, — сказал Хулио. — Заставить сына великого Франсиско Фалькона раскрыть преступления своего отца — это же блеск!
— Такую мысль не назовешь рациональной.
— Художникам чужд рационализм. Как мы могли бы волновать умы людей, если бы наши умы не бурлили?
— Убийство — не искусство.
— Вы пропустили слово «настоящее»! — вскричал Хулио, вскакивая с расширившимися зрачками, сияющими чернотой, которая не изливалась наружу, а всасывала в себя. — Нужно было сказать «Настоящее убийство — не искусство» или… или… «Убийство — не настоящее искусство».
— Сядь, Хулио. Просто присядь на минутку… мы еще не закончили.
— Понимаете, проблема в том, — заговорил Хулио, — что… что теперь я вижу все слишком ясно. Мне как-то не удается понизить уровень зрительного восприятия. Стоит только кого-нибудь убить, и все становится до жути настоящим, до непереносимости. Вы знали это, дядя, знали?
— Верно, я действительно твой дядя, — произнес Хавьер, стараясь держать Хулио под контролем. — И я это знаю.
— Поэтому я и не стал вас убивать. Я только пытался спасти вас от слепоты.
— Да, теперь я прозрел и благодарен тебе за это, — сказал Хавьер. — Но есть еще одна вещь, которую я хотел бы узнать от тебя.
— Все уже было сказано, сделано, записано и снято на пленку… Осталось только одно.
Хулио развернул Фалькона лицом к письменному столу, и он увидел стакан с миндальным молоком, дневник в кожаном переплете и свой полицейский револьвер. Хулио взял нож и разрезал провод на правом запястье Фалькона.
— А теперь я должен уйти, — сказал Хулио, бросив нож на стол. — Вы знаете, что делать. Нужно положить конец страданиям.
Они посмотрели друг другу в глаза и одновременно перевели взгляд на револьвер, лежавший на дневнике, рядом со стаканом молока — напоминанием обо всем, что Хавьер совершил и что потерял.
— Выбор за вами, — сказал Хулио. — Это единственный способ поставить в этом деле точку и навсегда забыть о нем.
Ладони у Фалькона взмокли, пот побежал по его лбу. И откуда в нем столько жидкости? Он взял револьвер, отщелкнул магазин, убедился, что там нет ни одного пустого гнезда, снял оружие с предохранителя и дрожавшей рукой поднес его к виску. В этот момент самоубийство казалось ему неплохим выходом. Простейшим решением перед лицом внезапно возникшей пустоты. Его прошлое было перечеркнуто, а будущее представлялось зыбким и смутным. Любовь отца… ее никогда и не было. Только ненависть, которую он, Хавьер, подпитывал… самим своим существованием. К тому же… кто он теперь? Может ли он считать себя Хавьером Фальконом? В нем не осталось никаких скреп, кроме чувства вины и горя; выдерни их, и он распадется на части. Но вот появился шанс разом со всем покончить. Одним легким нажатием на спусковой крючок он может разнести вдребезги вместилище своей муки.
Вдруг в его памяти что-то раскрылось, и он вспомнил тот поцелуй, тот мягкий нажим маминых губ, которым она благословила сына навеки. Хавьер вдруг осознал, кто он, ощутил в себе того мальчика, каким был для нее. Спутанный узел его мыслей чуть-чуть распустился, и он различил концы, за которые можно потянуть.
С его души свалилась хотя бы часть груза: он не имел ничего общего с человеком, которого считал своим отцом, и все же… Между ними существовала какая-то связь… но какая? Неужели все так примитивно, как утверждает Хулио? Неужели Хавьер служил отцу постоянным напоминанием обо всех его неудачах? Неужели он стал символом ненависти? Или последний поступок отца был таким же неоднозначным, как и человеческая натура вообще? Наши насущные потребности делают нас слабыми. Жизненные невзгоды толкают нас по пути предательства к никчемности и подлости, но не исчезает тяга к тому, что представляло собой истинную ценность: Рауля к Артуро, Рамона к Кармен, Франсиско Фалькона к Хавьеру.
Его отец, навязывая ему эти дневники, словно хотел сказать: «Теперь ты знаешь, что я за человек. Возненавидь меня и будь свободен».
Хавьер повернулся. Хулио все еще стоял в дверях и ждал. Хавьер вытянул вперед дрожащую руку и направил револьвер в искаженное безумием и утратившее свою глянцевую красоту лицо парня.
— Подойди ко мне, — спокойно и даже ласково сказал Хавьер, и Хулио подчинился.
Он шел прямо на Хавьера, пока дуло револьвера не уперлось ему в переносицу.
— Я не собираюсь стрелять в тебя, — произнес Хавьер, чье левое запястье все еще было привязано к стулу.
Все произошло мгновенно. Прежде чем Фалькон успел придумать слова, способные проникнуть в рассудок безумца, тот одной рукой схватил Фалькона за кисть, а другой нажал на его палец, лежавший на спусковом крючке. Грянул выстрел. Грохот сотряс комнату и эхом отозвался в пустом доме.
Хулио отлетел назад и вывалился через стеклянную дверь во дворик. Его кровь потекла по мраморным плиткам к каменному ободку фонтана.
К 11 вечера levantamiento del cadaver было завершено, и дежурный судебный следователь — уже не Эстебан Кальдерон — удалился. Пока шел сбор улик, Рамирес, в присутствии комиссара Лобо, снял с Фалькона предварительные показания.
В 11.30 Лобо повез его в больницу, чтобы ему наложили шов на веко. По дороге Лобо рассказал, как он добился отставки комиссара Леона. Хавьер выслушал его молча.
— Знаете, — сказал Лобо, когда они въехали на стоянку больницы, — это дело неизбежно будет муссироваться в прессе, особенно… из-за своеобразной роли в нем вашего отца.
— Этого и добивался Хулио, — ответил Хавьер. — Он хотел максимальной и самой скандальной огласки… как, вероятно, любой художник. Теперь я уже ничего не могу с этим поделать. Остается только…
— Ну, я надеюсь, что сумею взять ситуацию под контроль.
Хавьер вопросительно поднял бровь.
— Нам надо рассказать все какому-то одному журналисту, — сказал Лобо. — Тогда вы сможете изложить свою версию истории, чтобы ее не перехватили у вас и не превратили в жуткий бред.
— Я не боюсь этого, комиссар, хотя бы потому, что вряд ли найдется издатель, способный приписать моему отцу более жуткие грехи, чем зверство, пиратство, воровство, самозванство, двойное женоубийство и мошенничество.
— Но, полагаю, всегда лучше, чтобы первое впечатление…
— Сдается мне, комиссар, что вы уже договорились с каким-то журналистом, — заметил Хавьер.
Молчание. Лобо вызвался проводить его до хирургического кабинета. Хавьер отказался.
Он сидел с закрытыми глазами под ярким неоновым светом своей новой жизни, а над ним колдовали врачи. Тяжелые думы не покидали его. Как воспримут Мануэла и Пако яростные нападки средств массовой информации? Что он скажет им? Ваш отец… но не мой, был чудовищем? От Мануэлы это наверняка отскочит как горох от стенки. Она не станет мучиться. Но Пако… Отец «спас» Пако после того, как тот был изувечен быком, подарил ему ферму, помог устроиться в новой жизни. Брату нелегко будет на все наплевать. Хавьер испытал облегчение, осознав, что связи не нарушились и что все останется по-прежнему.
— Вам больно? — спросил врач.
— Нет, — ответил Хавьер.
— Сестра, — позвал врач, — промокните ему слезы.
Из больницы Хавьер вышел в полночь все еще в окровавленной рубашке, взял такси и доехал до дома. Он стоял посреди дворика, глядя на бронзовую фигуру, зависшую в прыжке. Всегда он в движении, этот мальчик.
Хавьер поднялся в мастерскую. Черный зрачок фонтана следил за ним, пока он шагал по галерее.
Он сразу прошел в кладовку, сгреб все копии отца с картин Чечауни и пять холстов, скрывавших непристойное изображение матери, и сбросил их во дворик. За ними отправились коробка с деньгами и порнография. Взяв пятилитровую бутыль со спиртом, он спустился вниз, обильно полил образовавшуюся у фонтана кучу и кинул сверху зажженную спичку. Пламя взвилось ввысь, и по безмолвному дворику заплясали желтушные отсветы.
Хавьер пошел в кабинет, где на письменном столе все еще стояла оловянная шкатулка, вынул из нее бесценные миниатюры и разложил их в ряд. Картины его отца, его настоящего отца. Он почувствовал, как снова взлетает вверх над обращенным к нему лицом, которое никак не вспоминалось и наконец вспомнилось ясно-ясно.
Он принял душ и надел чистую рубашку. Ему не хотелось ни спать, ни оставаться дома. Им овладело непреодолимое желание побыть среди людей, хотя бы незнакомых… нет, именно незнакомых. Он вышел в ночь, и его повлекло к огням, окаймлявшим черную, как лаковая кожа, реку. Он перешел на другой берег и, оказавшись на площади Кубы, отдался на произвол толпы, понесшей его по улице Асунсьон к площади Ферии.