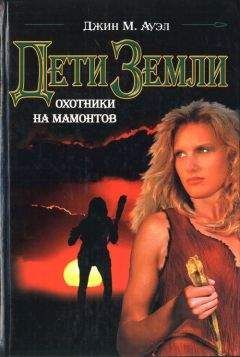наверху, где они в первый раз занялись с ним любовью (студенты-медики – люди очень неприхотливые), а затем стала методично припоминать все комнаты и помещения, где они занимались любовью после. Но их было слишком много, и все они были очень разные: в штате Мэн, в Лондоне, в Лос-Анджелесе, в квартире рядом с Мемориалом и в квартире на Восемьдесят первой улице, где она выросла. И здесь, наверху, в этом самом доме, где зимой было невообразимо холодно, как она теперь узнала. И в Париже. За все эти годы они трижды летали в Париж, но останавливались в разных гостиницах. Как тут было все их сосчитать?
Она вспомнила беременность и рождение Генри, и ночи, когда то и дело приходилось вставать и подходить к нему, потому что он очень долгое время плохо спал, и как Джонатан брал ребенка на руки со словами: «Иди спать, я его убаюкаю». И детскую игровую площадку на Первой авеню, где летними погожими деньками она качала Генри в коляске и ждала, пока Джонатан ускользнет из больницы, чтобы полчасика посидеть с ними. Ту самую детскую площадку, где потом ее сын играл с Джоной, который в один прекрасный день перестал с ним разговаривать. Ту же площадку, где Генри как-то остановил Джонатана на тротуаре, а какая-то незнакомая женщина молча двинулась дальше. Она вспомнила собеседования с аналитиками и методистами в детских садах по всему Манхэттену (потому что боялась, что Генри не возьмут в Рирден – глупые страхи), на которых Джонатан с такой теплотой и убедительностью говорил об образовании, которое, как он надеялся, получит его сын, что очаровывал членов комиссий одного за другим. Генри могли принять почти в любую школу. И ужины дома у Евы, где Джонатан демонстрировал изысканнейшие манеры, и бесчисленные ужины в столовой в их квартире, и за кухонным столом, и за столом, за которым она сидела сейчас, в эту самую минуту. О да, и как однажды он явился к ней в офис с «бургерами по-русски» из сети «Нил», но они их не съели или съели, но не сразу. Сначала они занялись любовью на кушетке в ее кабинете. Про тот раз она совсем забыла.
Она припомнила каждую комнату в их квартире на Восемьдесят первой улице – ее квартире, где она сначала была ребенком, потом женой и матерью, а затем – совсем недолго – брошенной, объятой ужасом телесной оболочкой человека, ожидающего полного краха и уничтожения. Припомнила паркетные полы в коридоре, жалюзи на окнах столовой, которые мама всегда закрывала, а Грейс всегда открывала. И комнату Генри, когда-то – ее спальню. И «офис» Джонатана, некогда служивший «берлогой» отцу Грейс. И кухню, где когда-то хозяйничала ее мама, а потом она. И ванну, и кровать, и флаконы с духами «Марджори 1», «Марджори 2» и «Марджори 3», вылитыми в раковину. И драгоценности, по одной за каждую измену неверного мужа, который по-прежнему любил свою жену, но не мог быть с ней счастлив.
Она никогда не будет снова там жить. Настал момент, когда это стало ясно окончательно и бесповоротно. Та квартира, тот дом – все ушло в прошлое. Как ее семейная жизнь. Как ее муж, который теперь просил у нее прощения, находясь за тысячи километров там, где лютуют морозы.
Стоп. Но прощения он не просил. Она это точно знала даже до того, как снова взяла в руки письмо, но все-таки опять перечитала с почти клинической скрупулезностью. Это казалось важным, весьма важным пунктом. Джонатан в собственноручно написанных им строках говорил о желании защитить ее и о том, что потерял над собой контроль. О своих страданиях. Написал, что она сможет это пережить. Но о прощении даже не обмолвился. Возможно, он понимал, что его нужно прощать за слишком многое, за очень многое, даже изложенное в этом письме. Или, вероятно, думал, что его вообще прощать не за что.
Поэтому она снова вернулась назад, дальше во времени и шире в пространстве. Перешагнула границы своих отношений с Джонатаном и двинулась в сторону того, что происходило раньше, и событий, сопровождавших их отношения. И картина начала медленно меняться и выглядела теперь совсем иначе, нежели прежде, всего несколько минут назад. На этот раз Грейс увидела младшего братика, который заболел, и ему пришлось остаться дома и не ходить на бат-мицву. Увидела его отца и мать, от которых он просто ушел, и его брата, которого Джонатан походя называл закоренелым бездельником, избалованным мужчиной-дитятей, никогда не работавшим и жившим в подвале родительского дома. Увидела женщину в Балтиморе, у которой (или с которой) Джонатан каким-то таинственным образом жил, пока учился в колледже. И тот случай, когда он исчез на три дня, будучи еще ординатором. И деньги, которые он взял у ее отца, чтобы заплатить за обучение мальчика в школе, где учился его собственный сын. И врача, которого он ударил, по имени Росс Уэйкастер. И женщину-адвоката, у которой он консультировался по поводу увольнения с работы, а потом послал ее куда подальше. И пациентов, которых он просто не принял в больницу в этот день. И похороны в Бруклине восьмилетнего мальчика, который не умер от рака, и куда Джонатан не ездил. И редактора журнала «Нью-Йорк», которая оказалась тетей пациента Джонатана. И медицинскую конференцию в Кливленде или в Цинциннати, где-то на Среднем Западе, которая не проходила ни там, ни там, потому что вообще нигде не проводилась. И Рену Чанг, которая, возможно, теперь жила в Седоне с ребенком, вероятно, зачатым от мужа Грейс. Грейс никогда не увидит этого ребенка. Она ничего не желала о нем знать. Но тут она подумала о другом ребенке, том, что вырастет на Лонг-Айленде: этого ребенка ей придется знать до конца дней своих.
А еще Грейс подумала о погибшей Малаге Альвес.
Она встала, подошла к задней двери и шагнула на крыльцо, дыша полной грудью. Шерлок стоял на причале, весь вытянувшись в струнку, высматривая и вынюхивая в лесу какую-то живность. Услышав звук открывающейся двери, он вяло помахал хвостом, но отвлекаться не пожелал. Грейс спустилась по ступенькам, приблизилась к нему и постояла рядом несколько минут, гадая, что же он там увидел или учуял. В лесу, наверное, кто-то есть. Сейчас еще рановато, но вполне возможно, что спячка уже закончилась, предположила она. К лету леса наполнятся живностью, а дома – людьми. Само озеро пробуждается ото сна, подумала она, все притаившееся на дне вскоре вновь вернется на поверхность, и птицы прилетят обратно –