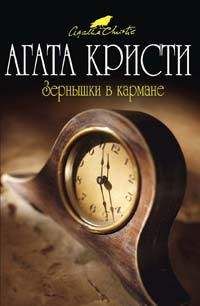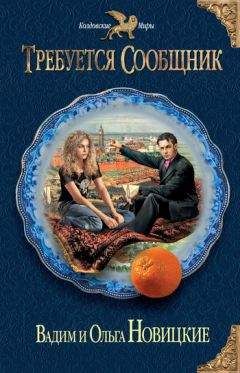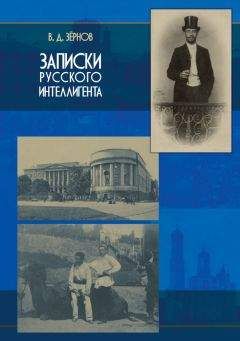Боренька и Лизонька Плаховы, наследные принц и принцесса, вопреки стараниям отца, матери и гувернеров, находились в контрах с самого нежного возраста. Борис беззастенчиво признавался, что возненавидел сестру, как только эту маленькую нахальную узурпаторшу принесли завернутую в розовое одеяльце и она своими воплями поставила на уши весь дом. Когда она чуть-чуть подросла, для Бори не было отраднее развлечения, чем подсунуть сестрице собачью какашку в обертке из-под шоколадной конфеты или навести шариковой ручкой на глупые резиновые мордочки ее любимиц кукол несмываемые лиловые усы. Лиза отвечала тем, что портила его коллекцию значков, отламывая от них булавки. Война велась затяжная, без перемирий, в ней использовались все средства, за исключением разве что членовредительства… впрочем, насчет последнего Лиза не уверена. Она по сей день сомневается, что Борька не был замешан в том жутком случае, когда трое сытых шестнадцатилетних парней, отпрыски приволжской элиты, на праздновании Лининого дня рождения (ей как раз исполнялось тринадцать) затащили ее в одну из дальних комнат, куда не заглядывала даже прислуга, и, возбужденно гогоча, принялись стаскивать с нее брюки и блузку. Изнасилование — это что, не членовредительство, по-вашему? И хотя испугавшиеся парни потом уверяли, что хотели «только посмотреть», Лиза уверена по сей день: если бы не охранник дядя Федя, неизвестно, чем бы это кончилось. Правда, с другой стороны, нет худа без добра: именно после этого происшествия родители отправили ее в Вайсвальд.
Лиза поморщилась: после путешествия на машине у нее болела голова, а острый мамин голос, точно неотвязный болт, ввинчивался в висок. Ну зачем, спрашивается, только приехали, и сразу кого-то ругать?
Татьяна Плахова хозяйственно бродила по восьми московским, законно ей принадлежащим комнатам. Она любила неожиданно появляться то здесь, то там, чтобы обнаружить какой-нибудь непорядок и сделать втык нерадивой прислуге. Бесспорно, квартира к приезду хозяев была приведена в порядок, воздух свеж, техника исправна, постели чистые и приятно теплые, но Татьяна глазом ястреба умела подметить и севшую на полированную поверхность пылинку, и косо лежащий ковер. За свои кровные деньги она желала получать все самое лучшее. Она всегда стремилась к лучшему, особенно сейчас, когда они с мужем получили все, чего достойны. Раньше, это же смешно вспомнить, какая бедность была! Из первой своей заграничной поездки, еще в советское время, Татьяна привезла целую сумку мелких баночек и бутылочек с водкой, коньяком и недоступной тогда у них кока-колой. Переводчик, мелкий идиот в очках, еще не позволял брать, говорил, что сгребать все бутылочки неприлично, стыдно перед принимающей стороной… А чего там стыдно! Ей хотелось — она сгребла. Надо было переводчику знать: Татьяна всегда получает, чего захочет. А хотелось ей всегда самого лучшего.
Стеснение, неприличие и прочие невещественные штуки — это для тех, кто не смеет взять. Хочется человеку и колется, вот он и выдумывает себе в оправдание, что, мол, неловко ему… Татьяне никогда не было неловко! Даже в те годы, когда она, юная и дерзко хорошенькая сотрудница приволжского райкома комсомола, положила глаз на восходящего по ступеням служебной лестницы Глеба Плахова. Женатого… Тоже твердили ей тогда бабушки-соседки: мол, как же тебе, Танька, не совестно, совсем, что ли, стыд потеряла, у живой жены мужа отнимать? Говорили еще: карьеру ему погубишь, партия не поощряет разведенных. Танька в ответ только хохотала: плевать ей на соседок! Ну и кто оказался прав? Допустим, из-за развода притормозили следующее Глебушкино повышение, а после-то разве не благодаря Татьяне он пошел в рост, добравшись до поста хозяина всей Приволжской области? Альбина ему не соответствовала, не сумела бы она исполнять обязанности жены человека такого ранга. Во-первых, по характеру — чересчур нервная, изломанная, с выкрутасами. Во-вторых, внешне — глиста глистой. На треугольном Альбинином личике выделяются темно-красные губищи и карие, с избытком ресниц, глаза, выпученные, словно увеличенные сильными очками от дальнозоркости, хоть никаких очков на Альбине нет. Где-нибудь во Франции, наверно, считалась бы в самый раз, но у нас, в России, такую внешность народ не залюбит. То ли дело Татьяна: когда показывается на торжественных мероприятиях рядом с Глебом Захаровичем, потом самой приятно взглянуть по телевизору. Он — настоящий богатырь: высокий, полный, косая сажень в плечах, с благодушной широкой улыбкой и огненными черными глазами: в роду Глеба затесались кубанские казаки, и присутствие южной, возможно не без туретчинки, крови придает ему особенный шарм. Она — хлебосольная хозяйка, мать семейства: высокая грудь, крутые бедра, гордая посадка головы, одета и причесана всегда так, что не стыдно на людях появиться. Плаховы — красивая пара, что бы ни писали о них во всяких паскудных желтых листках завистники…
Звонок в дверь прервал ее приятные размышления. Конечно, в доме, полном прислуги, откроют и без нее, однако Татьяна Плахова, прервав разнос очередной дуры-горничной, бросилась в прихожую, шириной не уступающую парадной комнате типовой квартиры. Заколотилось в груди материнское сердце: ведь это наверняка Боренька! Боренька, кровиночка, наследник всего плаховского царства, не пошел сегодня в институт на учебу, первым делом поспешил повидаться с матерью и отцом… Увидев, кто в действительности осчастливил ее посещением, Татьяна невольно отступила на шаг. Она распорядилась бы не впускать, но было поздно.
— Здравствуй, Таня, — церемонно поклонился нежеланный гость, обдав ее кислым нездоровым дыханием. Татьяна демонстративно отстранилась.
— Здравствуй, Витя, — сухо ответила она. — Что ж ты оделся так… не по сезону?
Костюм гостя московской резиденции Плаховых действительно странновато смотрелся в середине ноября: на нем был длинный, светло-желтый, со множеством карманов и пряжек, когда-то безумно дорогой плащ и светлые, насколько можно было разглядеть из-за слоя покрывавшей их осенней грязи, летние ботинки. Из-под плаща на ботинки небрежно спадали полосатые брюки, судя по некоторым признакам пижамные.
Татьяна сосредоточила внимание на одежде, чтобы не смотреть в лицо пришельца. Ей не доставляло удовольствия лишний раз видеть эту небритую морду, чей идеально прямой римский нос и подбородок с ямочкой издевательски напоминали ее собственные, драгоценные, лелеемые с помощью эксклюзивной косметики и плацентарных кремов черты лица.
— Дашь денег — куплю то, что по сезону, — ответил гость с откровенностью человека, безвозвратно утерявшего чувство самоуважения.
Татьяна взяла его за плечо и, крепко придерживая, словно боясь, что он вырвется и учинит дебош, повела в дальнюю комнату…
Изнемогая от борьбы с головной болью, Лиза решила все-таки принять таблетку темпалгина. Самостоятельно найти и принять: не хватало еще впутывать в это дело горничных! Аптечка в их московской квартире, как в американских домах, помещалась в ванной за отодвигающимся зеркалом. Проходя мимо маминой комнаты, Лиза услышала клочок жаркой беседы. Остановилась, прислушалась. Второй голос был ей знаком, хотя она давно не встречала его обладателя и полагала, что он вообще как-то исчез из плаховской жизни. Но почему мама волнуется? Так необычно… Только бы очередная горничная не вывернула из-за поворота коридора! Лиза приникла ухом к щели между дверью и косяком.
— А ко мне тут на той неделе журналисты забегали, — громко втолковывал маме посетитель — чересчур громко для такого банального сообщения. — Разыскали меня…
— Да? — ахнула мама.
— Ты не пугайся, Таня: я все понимаю. Если хочешь знать, я с ними даже слова не сказал: спустил с лестницы, вот и весь разговор. А теперь думаю, и так и подмывает меня: что, если бы я рассказал о свете? — куражился посетитель.
— Прекрати, Витя. — Властный голос мамы дрожал от волнения, и это было так необычно, что никакие силы не оторвали бы сейчас Лизу Плахову от дверного косяка. — Никому не нужен твой свет.
— Нет, а ты представь, какой бы получился эффект!
— Тебе-то что за польза, Витя? Зачем тебе это говорить?
— Незачем. И не скажу. Ты забыла о свете, и я забыл. Дай денег, добром прошу! Сама видишь, хожу, как нищий…
«Свет? — размышляла над необычностью услышанного Лиза ночью, ворочаясь с боку на бок. — Что ш ерунда, какой свет? И почему мама так боится упоминаний о каком-то свете? Может, это женское имя, «Света»? Нет, я же отчетливо слышала, в мужском роде, именно «свет»…»
Когда Лиза Плахова наконец заснула, ей приснился свет. Густой и зеленоватый, лучами, похожими на щупальца, он проникал в щель между дверью Лизиной спальни и косяком и тянулся к голой Лизиной ступне, а Лиза во сне все отодвигалась и отодвигалась и знала, что ей не увернуться.