провожу тебя.
Когда мы выходим из ресторана, я чувствую, как на меня наваливается усталость. Я кое-как застегиваю пальто, смотрю на часы и с удивлением обнаруживаю, что всего лишь половина шестого. Сегодня вечером я планировала посмотреть комедию о травме поколений в кинотеатре над гаражом. Я наверняка справлюсь, если посплю за час до этого. Снаружи облака рассеялись, и температура упала. Разбитый уличный фонарь перед моим домом потрескивает, излучая слабый желтый свет. Жюстин помогает мне подняться по лестнице, позволяя отдохнуть на площадке третьего этажа. У меня болят колени. Кажется, теперь они всегда болят после подъема по лестнице. Хотела бы я сказать, что слишком молода для боли в суставах. Но суставы утверждают обратное.
К тому времени, как мы подходим к моей двери, я уже знаю, что сегодня вечером я больше не смогу ни спускаться, ни подниматься по этим ступенькам. Пока Жюстин ставит чайник, я пишу электронное письмо пресс-агенту с сообщением о пищевом отравлении. Затем звоню Роджеру, предоставляю ему отредактированную версию правды и добавляю, что мне нужно отложить публикацию на день или два. Я не рассказываю ему о несуществующей группе, о статье в American Stage, которой никогда не было и не будет. Нельзя так много взваливать на редактора за один раз, особенно без хорошего помощника. Жюстин наливает горячую воду в две кружки и добавляет щедрую порцию из бутылки с бурбоном.
– Исключительно в лекарственных целях, – хмыкает она. – Полагаю, на гвоздику рассчитывать не стоит?
– Кажется, тот парень из подкаста, с которым я встречалась, оставил орегано.
Она морщит нос.
– Нет, спасибо. – Но она находит банку меда и добавляет несколько ложек. Пока я дую на напиток, она тараторит: – Хорошо. Колись. Как оно на самом деле? – Делает глоток. Ее помада отпечатывается на ободке чашки. – Глаза открыты? Ужасно?
Как и у многих людей с готическим периодом в средней школе и последующим заигрыванием с самоубийством, у Жюстин страсть ко всему мрачному. Это не та страсть, которую мы разделяем. Особенно сегодня.
– Да, – бурчу я. – Невыразимо. Так рада, что ты спросила! И спасибо тебе за это печальное подобие пунша. А теперь иди домой. Или, по крайней мере, заткнись. Я просто хочу спать.
– Хочешь расслабиться? – Она лезет в сумочку и достает пузырек. – От «плохого доктора». Классная штука! Я приняла одну прошлой ночью, и это было похоже на девятичасовую анестезию. Охренительно. Он говорил что-то о странных снах. Но я не думаю, что мне вообще что-то снилось.
Я протягиваю руку за таблетками.
– Неважно. Мне и так снятся странные сны.
Она вкладывает в мои пальцы пузырек. В конце концов, таблетки – это наш язык любви.
– Попробуй, – проговаривает она. – Там около дюжины таблеток, и я, вероятно, смогу достать еще. Считай это ранним рождественским подарком.
– Ты всегда знаешь мои потребности, – усмехаюсь я.
Проводив ее до двери, закрываюсь на все замки и, проглотив плоскую зеленую таблетку, раздеваюсь до футболки и забираюсь в постель. Я засыпаю еще до того, как моя голова касается подушки. Но вдруг я подскакиваю, протягивая руку к телу, которого рядом нет. Я не знаю, который час, но тишина предполагает очень поздний час. Или очень ранний. Затем я слышу шум. Шаги раздаются прямо надо мной, они буквально грохочут где-то наверху. Что вообще-то не выглядело таким уж странным, если бы не одно «но»: даже в этом одурманенном состоянии я точно помню, что живу на верхнем этаже. Надо мной никого нет. И наш многоквартирный дом не имеет выхода на крышу. Я отмахиваюсь от происходящего, как от побочного эффекта, слуховой галлюцинации, и позволяю себе вернуться в сон.
Будучи ребенком, я чувствовала все, и чувствовала слишком сильно. Я плакала из-за ушибов, насмешек, статей в журналах. Я писала в дневнике, пока у меня не начинали болеть руки.
Однажды я рыдала из-за дерева, сахарного клена, листья которого покраснели от первых осенних холодов, потому что знала, как скоро они упадут спиралью на тротуар и рассыплются в пыль. Моя мама крепко прижимала меня к себе и шептала, что все будет хорошо, что весной появятся новые листья, что все, что уходит, потом к нам возвращается. Конечно, она была неправа.
Театр никогда не дает таких обещаний. Представление длится час или два. Вот и все. Хлопайте. Топайте. Кричите «Бис!», пока не начнете задыхаться и синеть. Это не поможет. Этот конкретный момент общения актера и публики больше не повторится. Не полностью. Не точно так же.
Что касается меня, я особо не прилагаю усилия, чтобы сохранить постоянство. Вот журнал. И квартира-студия. И Жюстин, единственный человек, который знал меня, пусть только на расстоянии, в моей прошлой жизни. Но в настоящем, когда что-нибудь или кто-нибудь другой пытается прижать меня к себе или находится слишком близко, я знаю напиток, или таблетку, или код для блокировки номера, позволяющие освободиться. Потому что сейчас мне нужно чувствовать меньше.
И все же сегодня утром, вспоминая вчерашний день – его одежду, обветренное лицо под деревом, – я вовсе не ощущаю оцепенения. Мое сердце бьется в каком-то бешеном темпе, и я обливаюсь потом, точно в парной. Через окно, как всегда приоткрытое, чтобы заглушить мучительное шипение радиатора, я слышу, как едет «скорая», чтобы оказать очередную неотложную помощь. Еще один хладный труп. Еще одна плачущая невеста. Или, может быть, это за мной. Я могу представить, что пот и учащенный пульс – это реакция на травму, физическое проявление эмоций, которые любой лицензированный терапевт счел бы уместным. Уместным для любого другого. Потому что я знаю, что происходит, когда я чувствую слишком много. А нейролептики никому не нравятся. Даже мне.
Мертвое тело не имеет никакого отношения к Дэвиду Адлеру. Я знаю это. Но каким-то образом мой разум связывает две катастрофы. Лучше бы я никогда не отвечала на его звонок, никогда не присутствовала на том интервью, никогда не звонила Ирине и не встречалась с Джейком Левитцем. Я слишком многим рисковала, подпуская все это настолько близко. Мертвое тело – возмездие. Чтобы не передумать, я нахожу визитку Джейка, а также Дестайна, и рву обе, кинув бумажное конфетти в унитаз. Затем я глотаю половинку лоразепама, практически последнюю, принимаю горячую ванну и тщательно натираясь грубой мочалкой, прогоняю воспоминания.
Вытираясь насухо полотенцем, я принимаю несколько решений: больше не доводить свое тело до обморока. Больше не ввязываться в неприятности, которые меня не касаются. Ну и что, что Дэвида Адлера уволили? Ну и


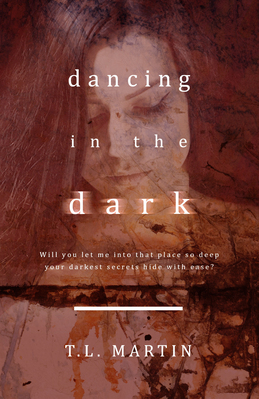


![Владимир Набоков - Смех в темноте [Laughter In The Dark]](https://cdn.my-library.info/books/137611/137611.jpg)