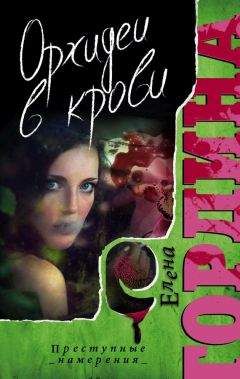пока еще пустую сумку на середину комнаты. – Послезавтра я улетаю, и хватит об этом!
Федечка сидел на диване с красным лицом и нервно теребил край рубахи.
– Дура!
– Дура, – спокойно согласилась Олеся и подошла к аквариуму. – Рыбу-то хоть корми, она живая и не виновата в том, что мы поссорились.
– Мы не сорились! – заорал Федечка, брызгая слюной. – Это на тебя просто нашла бабья блажь! Бабья дурь! Называй как хочешь! И ты готова рисковать жизнью, чтобы мне что-то доказать!
Олеся молча сняла свою икону со стены, задумчиво стерла пыль сначала с лика святого, потом с барашка.
– Я не могу так больше, мне необходимо побыть одной. Прости. – И положила икону на дно сумки.
– Не можешь? А чего ты не можешь? – Вконец взбешенный Федечка вскочил на ноги. – Чего тебе не хватает? Денег? Может, тебе есть нечего? Может, я бью тебя? Да ты скажи спасибо, что я вообще на тебе женился. Вон другие наигрались и бросили!
Олеся вздрогнула, как от пощечины, и подняла на мужа глаза:
– Это удар ниже пояса. Ты же ничего не знаешь.
– И знать не хочу! – Федор бегал вокруг жены, нелепо поднимая ноги в домашних тапках. – Дура, дура, дура, трижды дура. Куда ты собралась? Зачем?
Олеся молча выложила вещи из шкафа на пол и начала задумчиво их перебирать.
– Чего ты молчишь? Чего ты вечно молчишь? Честное слово, ты недоделанная какая-то! – Федечка присел рядом и схватил ее за руки.
– Мне больно! – Олеся попыталась освободиться. – И прекрати этот визг, пожалуйста.
– Больно? Да что ты знаешь о боли? Ты изнеженная, избалованная дура! – Он некрасиво дернулся. – Да катись ты в свои тропики, может, хоть там чему-нибудь научишься!
Олеся зло выдернула руки и, подняв с пола джинсы, кинула их в сумку.
Федор выбежал в коридор, продолжая громко сопеть, затем он нервно накинул куртку и заглянул в комнату:
– Я ухожу. И, возможно, навсегда. Мне не нужна жена-истеричка, способная подставить под удар все, что у нас было, повинуясь всего лишь минутному порыву! Да что там! Идя на поводу бабьей дури!
И оглушительно шарахнув дверью, вылетел вон.
– А я все равно поеду, – прошептала Олеся в пустой комнате и закрыла сумку.
Вульгарного вида женщина в дорогущей кожаной куртке, кожаных брюках и кожаной кепке улыбалась ему, наверное, уже час. Воронин сразу же поставил диагноз: «провинция». Ну, действительно, кто так ходит? Только обеспеченная провинция.
– Спички есть? – ожидаемо грубым голосом поинтересовалась дама и нагнулась к нему близко-близко. – А то я свои дома оставила.
От нее пахло сладкими духами, мятной жвачкой и сигаретным дымом.
Воронин молча протянул зажигалку, потом откинулся в кресле и закрыл глаза. Поезд мчался на всей скорости, изредка распугивая лесную живность резким сигналом. Наступил июнь, тепло и солнечно, зеленая листва мелькала за окном, воздух был пропитан свежестью, и только Воронин чувствовал себя все хуже и хуже. В полном резонансе с природой.
– Вы домой едете? – хриплая дама прикурила вторую сигарету от первой.
– Нет, – буркнул Воронин, хотя он наврал.
Конечно, домой, домой к отцу, куда ж ему еще ехать за помощью? После подброшенного водительского удостоверения стало совершенно очевидно, что его собираются шантажировать, а это значит, что в городе нельзя оставаться ни дня. Воронин быстро собрал сумки и, так ничего и не объяснив рыдающей Марине, рванул сюда, в город своего детства.
– Отдыхать? – никак не успокаивалась дама.
– Слушайте, – Воронин был сплошным комком нервов, – я очень устал, я женат, я люблю жену, успокойтесь, а? – почти попросил он, снова откидываясь назад и закрывая глаза.
– Скотина, – процедила «кожаная» женщина и резко встала с места.
Воронин открыл правый глаз и успел заметить, что и сумочка у нее была тоже кожаная. И черного цвета.
Скрипнула дверь в купе, и Воронин, к великому его счастью, остался один.
В родной город он приехал уже поздно ночью и, не дожидаясь маршрутки, поймал такси.
– Мяготина, сто сорок пять, – бросил он таксисту и закурил. После того ужасного случая с Белкой он курил почти беспрерывно.
На четвертый этаж пятиэтажного дома едва поднялся, страдая отдышкой и нехваткой воздуха.
– Пора завязывать, – решил Воронин, прислоняясь лбом к закрытой двери родительской квартиры.
Он переводил дыхание, собираясь с мыслями, ему предстоял серьезный разговор.
Воронин поморщился, нажал на звонок.
– Кто там? – моментально отреагировал Герман Степаныч.
– Свои, – выдохнул Воронин и поставил сумку на пол.
Оказывается, все это время он так и держал ее в руке.
Дверь распахнулась, и Воронин шагнул вперед, в такой знакомый и родной до боли коридор, где еще пятнадцать лет назад стоял его велик:
– Привет! Я приехал!
Мать всплеснула руками и повисла у него на шее.
– А почему не предупредил? Мы бы тебя встретили! – верещала она, обнимая сына. – У нас и поесть-то ничего не приготовлено.
Воронин вяло приобнял ее за плечи и обратился к отцу, улыбающемуся неподалеку:
– Пап, мне надо скрыться на пару месяцев, у меня серьезные проблемы.
Мать громко ойкнула и замолчала, а Герман Степаныч, наоборот, взял сына за руку и повел на кухню:
– Рассказывай, все, что смогу, сделаю. Ты же дома, сынок!
Сергей и Аня поселились в небольшой частной гостинице на окраине Бангкока и почти двое суток не вылезали из постели. К вечеру третьего дня, когда запасы провизии закончились, Сергей, проклиная все на свете, отправился на рынок.
А Аня осталась одна. Она некоторое время бесцельно бродила по номеру, затем приняла душ и уселась в кресле поудобнее. На душе у нее было тяжело.
Как там говорят? «Однажды обжегшись на молоке, дуют на воду?» А если – не однажды? Тогда на что дуть?
Аня сидела как привидение, белое и неподвижное, вспоминая свое прошлое. Она так часто совершала в своей жизни ошибки, что порой ей казалось, ошибка – это и есть ее жизнь.
И не сказать, что люди попадались ей плохие, нет. Похоже, что в ней самой было что-то не так. Да, впервые влюбившись еще почти в детстве, мучаясь и сгорая от страсти, она позволила этим отношениям так глубоко врезаться в душу, что та кровоточила до сих пор. Правда, теперь все реже и реже, но зато Аня хорошенько запомнила, как это больно – любить. И постаралась уже в сознательном возрасте построить новый брак по расчету. Нет, не из-за денег, скорее, из уважения и надежности. Но очень скоро жизнь перестала радовать, один день сменял другой, и Аня уже перестала их различать, настолько