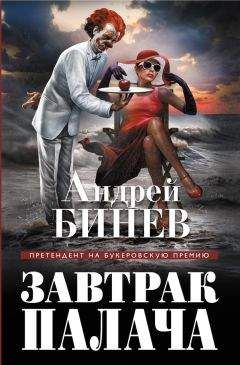Ознакомительная версия.
Второго русского звали, как и положено, Иваном. Фамилия у него была странная — Голыш. Будто и не русская. Ивану, огроменного роста и неопределенного возраста, на вид можно было дать лет сорок пять или больше. Бритый наголо, до синевы, круглый, правильной формы череп, маленькие светлые усики под мясистым носом, серые невыразительные глаза, очень мелкие и очень нервные. Он не употреблял спиртного и, по-моему, даже боялся его. Наверное, когда-то лечился и теперь отчаянно сражался со своей национальной бедой — непросыпным пьянством. Как и остальные, он был сказочно богат, но встреть такого человека где-нибудь в портовом городе, сразу подумаешь, что это не то заезжий моряк, не то местный портовый грузчик или даже просто мелкий бандит.
Мне кажется, Товарища Шею он не любил за то, что тот постоянно сдавался на милость их общему врагу — зеленому змию — и тем самым позорил нацию.
Голыш почти весь день с озлоблением лупил по шарам на своем русском бильярде, очень редко загоняя их в лузы. Товарищ Шея, наоборот, играл в бильярд всегда полупьяным (между двумя крупными заправками) и редко мазал. Он победно поглядывал на высоченного соотечественника, а тот лишь тихо рычал и сквернословил, не сводя своих маленьких глаз с очередной пары белых шаров и сжимая кий в руках так, словно это копье, а шары — головы врагов.
Во всех остальных случаях эти люди никогда не оказывались рядом.
Я вообще заметил, что русские словно недолюбливают друг друга, избегают общения между собой за границей и даже стараются не разговаривать громко на своем языке при посторонних. Не знаю точно, с чем связано такое их странное упрямство, но видимо, они смертельно надоели друг другу за всю их историю. А может, стесняются чего-то, как если бы на них на всех лежала общая печать векового проклятия.
Я никогда не замечал такого ни у немцев, ни у англичан, ни у итальянцев, ни у других европейцев. Хотя нет. Припоминаю, раз или два встречал таких же закомплексованных французов и еще, пожалуй, американцев.
Французы чрезмерно спесивы и раздражительны. Это, видимо, от какой-то застарелой обиды. Кто-то их когда-то недооценил или унизил, причем всех сразу…
А вот американцы обычно беспардонны, резки и крикливы. Это, видимо, от настойчиво скрываемого ими смущения. И еще я вот что думаю: когда их предки дали деру из Европы, то поклялись, что сделают все не так, как их веками учили дома. В Англии, например. И правда, получилось нечто иное… Но им оно, по-моему, самим тоже не очень-то и понравилось. Вот и смущаются теперь. А чтобы никто не догадался, орут все время и руками размахивают, да еще всем кулаками грозят.
Я тут на них на всех нагляделся. Да и не только тут.
Я наконец вернулся к немцу и поставил на столик перед ним вино и воду. Немец еле заметно кивнул и сделал движение клешней, чтобы я убирался к чертовой матери. И я убрался. Клиент всегда прав. Особенно в таком месте, как это.
Но уйти далеко не мог — это мой пост от завтрака до обеда. Потом я перемещался в основной ресторан, менял сорочку, бабочку, белый короткий смокинг на светло-серый дневной пиджак с бордовыми глянцевыми отворотами и с коротким черным галстуком. К вечеру я уже облачался в строжайший черный фрак наподобие тех, в которых размахивают палочкой дирижеры, с белой манишкой и бабочкой под подбородком.
Однако сейчас я должен оставаться здесь, в тени бара, за тростниковой ширмой, и не спускать глаз с ослепительно желтой полосы пляжа, с двух десятков шезлонгов и кресел, с белых широких зонтов, с кромки сочной изумрудной травы вдоль берега, с пальм и цветистых клумб и, главное, с людей, очень немногочисленных, гнездящихся в этом земном раю.
Со стороны моря постоянное наблюдение вели спасатели с двух мощных катеров, хотя в двадцати пяти метрах от берега, сразу под водной гладью пляжной бухточки, была натянута мелкая сеть, чтобы ни туда, ни обратно не проникло ни одно не зарегистрированное и не позволенное администрацией живое существо.
Однажды здесь утонула дама, а следом за ней солидный господин. Глубина (до сети) составляла не более ста семидесяти сантиметров, но они умудрились захлебнуться. Дама была трезвая, а господин смертельно пьян. Кто-то сказал, что они утопились намеренно — сначала она, а спустя два дня он. Она была полькой, а он аргентинцем; ей было чуть за сорок, а ему пятьдесят четыре. У них был тихий, уютный пляжный роман. Они шептались о чем-то подолгу под одним зонтом, пили «Дайкири», сидели за одним уютным столиком в ресторане, за ширмой, в восточном, немного навязчивом, стиле, ночевали то в ее, то в его апартаментах. Однажды она зашла в воду и больше оттуда не появилась. Он напился в тот же вечер коньяку, потом повторил это на следующий день, а утром третьего дня, смертельно пьяный, захлебнулся в этой же огороженной сетью и берегом аквамариновой луже.
Со спасателей и береговой охраны спросили всерьез: уволили сразу восьмерых, включая двух шефов — спасательной службы и службы специального берегового наблюдения. Потерять такую работу — величайшая трагедия. Это как быть изгнанным из рая ангелом.
Я в те дни не работал — приболел и валялся в своем двухкомнатном служебном номере, поглощая россыпи разноцветных таблеток. За нами, за обслугой, неусыпно наблюдала специальная немногочисленная группа медицинского персонала: любое подозрение на банальную простуду — и мы попадали в беспощадный карантин. Дорогих клиентов нельзя подвергать риску заражения!
Так что тут мне повезло. А мог ведь тоже оказаться в числе восьмерых неудачников, ведь официанты входят в систему берегового наблюдения. Как и бармены, уборщики пляжной полосы, садовники, водители электромобилей, обслуга теннисных кортов, гольф-поля, пяти бассейнов, банщики в четырех банях, охрана вертолетных площадок, складов, ангаров, двух пристаней и даже кинозала.
Мы все наблюдаем за тем, чтобы нашим клиентам ничто не угрожало. Они должны быть здоровыми и довольными своим пребыванием в нашем раю, который даже на вездесущих картах Google виден лишь как молочное, туманное пятно.
Здесь ведь и Интернет, и мобильная связь, и мировая пресса, и телевидение, и радио строго лимитированы. Они предназначены лишь для очень узкого круга обслуживающего персонала, с которого берут подписку о неразглашении того, что узнают на стороне или внутри комплекса. Клиентов решено было не беспокоить мировыми новостями. Пусть всемирная помойка бурлит и смердит далеко в стороне от райских кущ нашего гигантского парк-отеля, нашего клуба счастья, этой синекуры избранных. Каждый клиент, а их всегда не более семнадцати богатейших и крайне одиноких людей, знал это правило: он может все, что пожелает, кроме связи с миром. С грязным, безжалостным, завистливым, ржавым, разлагающимся миром.
Женщин среди нашей клиентуры мало — всего пятеро, да и те в большей степени бальзаковского возраста. Не считая утопленницы-польки (ее звали — Ева Пиекносска[3]), здесь обитали две англичанки (Кейт и Джулия), украинка Олеся Богатая и испанка Мария Бестия[4].
Сейчас на пляже, в стороне от всех, нежилась в тени самого широкого белого зонта загорелая пятидесятилетняя красотка, черноокая брюнетка Мария. Она взмахнула загорелой ручкой, и я тут же оказался у нее за спиной, тайком, с наслаждением наблюдая за великолепными шарами у нее под лифом плотного белого купальника. Голову даю на отсечение, она знала, что всякий мужчина, оказывающийся рядом с ней, не в состоянии оторвать взгляд от этого божественного великолепия.
Нам, обслуживающему персоналу, эти естественные удовольствия строго запрещены. За такое можно поплатиться местом, как за утопленницу или утопленника. Но что я мог поделать со своим либидо! Я же мулат!
— Бой! — произнесла она низким прокуренным голосом. — Закажите мне массаж по-тайски до обеда… в восточной бане, в турецкой. Кишасу туда покрепче, как я люблю, и виноград. И чтобы сахар только тростниковый, бразильский, в вазочке. Еще лимон, можно испанский. Да, и не забудьте, что для кишасы положены бразильские martelinho[5]… по пятьдесят грамм, не больше и не меньше.
— Слушаюсь, синьора! — Я еле оторвал взгляд от ее груди и тут же подумал, что сам бы с удовольствием сделал ей массаж.
Пятьдесят лет, а такая великолепная дама! Чуть полновата, бедра, может, слегка тяжеловаты, ноги могли быть длиннее, но общее впечатление все равно умопомрачительное. И волосы — воронье крыло с синевой. А глаза… Чернее ночи эти ее глаза.
Но я всего лишь официант, мулат и милейший парень средних лет.
* * *
Утром следующего дня в своих апартаментах повесился здоровяк Иван Голыш. Он висел на длинном шнуре, оторванном от тяжелых гардин в гостиной. Шнур зацепил за трубу в малой ванной комнате, накинул петлю на свою бычью шею и мужественно подогнул ноги. Когда его обнаружила горничная, он уже был весь синий и холодный.
Ознакомительная версия.