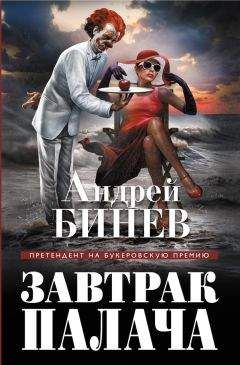Ознакомительная версия.
В то утро я впервые увидел, как плачет Товарищ Шея. Но главное, я впервые увидел его трезвым! Товарищ Шея стоял на пляже один, лицом к ласковому, тихому морю, и слезы неудержимо катились по его серым щекам. Он даже не утирал их, а только громко хлюпал носом. В десятке метров от него сзади в своем пляжном кресле сидел старый немец, похожий на рептилию, и сокрушенно покачивал своей маленькой ядовитой головкой.
Все это очень удивило меня. Русские упрямо избегали взаимного общения, но, оказывается, друг другу прямо-таки до слез сопереживали.
Нет, странный, однако, народ. При жизни готовы на всякую мерзость в отношении своего же соотечественника, а перед лицом смерти вдруг становятся до смешного сентиментальными и слезливыми. Мало того, они вдруг начинают самым жестоким образом мстить друг за друга. Поразительно!
Но вот что мне еще бросилось в глаза: лучше других все это о русских знают немцы. Поэтому, наверное, немцы с русскими то целуются в засос (помните эротичную фотографию Хонеккера и Брежнева?), то рвут друг друга на части (как Гитлер и Сталин). В кровь рвут, на куски! А потом опять целуются и пьют вместе. А еще любят вместе воровать и делить мир — это тебе, это мне… Одни ходят с точной логарифмической линейкой, а другие меряют пьяными шагами. А получается одно и то же.
Меня вызвал мистер Камански, наш утренний шеф, и попросил написать докладную записку о том, когда я в последний раз видел живым здоровяка Ивана.
— Почему я?
— Потому что только ты ему прислуживал в ресторане. Он предпочитал лишь тебя. Вас что-то связывало?
— Ровным счетом ничего. И потом… Когда я отсутствовал, за ним прислуживали другие.
— Они тоже напишут докладные записки.
Я пожал плечами, сел за маленький столик в углу его роскошного кабинета и написал, что в последний раз видел живым мистера Голыша вчера за ужином. Я, как обычно, подошел к нему и подал то, что он заказал, — русский винегрет, стакан газированной воды, свиную отбивную гигантского размера, потом яблочный пирог и чайничек черного английского чая. Он все смолотил за милую душу, словно собирался перекусить перед дальней дорогой. Теперь ясно, перед какой именно.
— Почему он называл тебя по-русски «Кушать подано»? — спросил Камански, поляк по происхождению, хоть и настоящий американец.
— Меня так называют многие. Я обычно подаю и говорю: «Кушать подано». На всех известных мне языках. Не только на русском. И называют клиенты меня так каждый на своем языке. Они сговорились…
— Они никогда ни о чем не сговариваются. Они презирают друг друга и в упор не видят.
— Видят. Двое видели. Они утонули.
— А этот повесился. Большая потеря для нас. Он был одним из самых состоятельных и щедрых клиентов.
— Не могу ничем помочь. Я не снимал для него шнур с гардин, не завязывал петлю, а он не оставил мне наследства.
В этот же день специальная бригада техников заменила во всех апартаментах механизмы для тяжелых гардин. В новых механизмах шнуров уже не было. А по-моему, их пеленать всех надо перед сном и связывать руки, как младенцам, чтобы не оцарапали себя случайно. Все-таки они очень дороги нам.
Мы без них никуда, а они — без нас. Мы связаны невидимой цепью их предыдущих жизней, которые свели всех их в нашем общем доме, на нашем «острове покоя». Не будь нас, давно бы уже не было их. Но не будь их, не появились бы мы.
Впрочем, я бы появился. У папы с мамой.
Кем бы я стал? Официантом, как теперь? Военным? Полицейским? Торговцем? Продавал бы штучный товар? Например, хорошеньких девочек и мальчиков? Или торговал бы наркотой?
Американца польского происхождения мистера Камански интересовало, почему я произношу чаще по-русски свое «кушать подано». Я же ответил ему, что не только «по-русски». Но ведь не из-за этого же повесился на шнуре от гардин Иван Голыш. И не из-за того, что не умеет попадать белым бильярдным шаром в строптивую лузу русского бильярда.
Может, ему просто надо было выпить один раз как следует со своим соотечественником, с Товарищем Шеей, и сейчас он бы не мерз в морге нашего лазарета, Товарищ Шея не ронял бы свои скупые слезы на пляже, в песок, старый немец не качал бы сокрушенно своей змеиной головкой, а глаза наших остальных немногочисленных клиентов не сочились бы тоской, за которой прячутся ужас и отчаяние. Они все сказочно богаты и фантастически удачливы.
Да, я говорю им каждый раз: «Кушать подано!»
Dinner is served!
Es ist gedeckt!
Vous etes servi!
Il pranzo e servitor!
Comer es dado!
Псти подано![6]
Но впервые я это произнес по-русски. А потом пошло-поехало. Им всем понравилось!
Я — мулат. Мой родной язык — португальский. Моя первая родина — Бразилия. Моя вторая родина — Россия. Это потому что мой отец — чернокожий бразильянец, а мама — белокожая русская. Получился я — русский бразильянец.
Хотя во мне течет и африканская кровь — именно оттуда, из черной Анголы, португальцы привозили в Бразилию рабов. Однажды отец, когда мне удалось увидеть его и даже перемолвиться парой слов, сказал, что наш род происходит от народа овимбунду, с запада Анголы. Он при этом надувал щеки и многозначительно поигрывал бровями.
Я не произношу «кушать подано» по-португальски, потому что здесь нет клиентов ни из Португалии, ни из Бразилии, ни из Анголы. Я произношу это только на тех языках, которые представлены сейчас у нас.
Но обо мне потом. Может быть, это кому-нибудь и интересно — особенно дамочкам, не спускающим глаз с цветных. Они все время смотрят на мои штаны, на мои плечи, на мою грудь, на шею, на руки. Я хорош. В свой сорок один год я в самом расцвете мужской мулатской красоты. И все же — потом.
Единственное, что я скажу: по природе я человек очень внимательный, а мозги у меня устроены так, что они постоянно анализируют все, что видят глаза и слышат уши, и даже то, что чувствует моя смуглая кожа.
Эти люди, тоскующие здесь по оставленному ими миру, друг другу не доверяют ни на йоту, а вот нам, безгласной, глухой и слепой прислуге, порой сообщают о себе такое, в чем не сознались бы даже самим себе. Я спрашиваю себя: «Почему?» И отвечаю: «Мы их единственное оконце в прошлое, одушевленные дневники, неотвратимое настоящее, и мы — молчуны».
Мне приходилось слышать от проституток, что есть особая категория клиентов, которые платят за час или даже за ночь лишь для того, чтобы излить изболевшуюся свою душу, а не опустошить свои яйца.
Одна такая, звали ее Мадлен, рассказывала, что к ней раз в месяц приходил крепкий на вид мужик, французский военный моряк, и всю ночь, обняв ее за обнаженные бедра, повествовал о том, как страстно любит свою легкомысленную жену-немку, как несчастен в браке и как не представляет себе жизни без той потаскухи. Он так увлекался, что начинал называть Мадлен именем жены — Эльзой. Он признавался ей в любви, корил за бесконечные измены, обещал убить, потом просил прощения, безутешно рыдал, размазывая по роже сопли и слезы. И наконец засыпал в объятиях проститутки, даже не стянув с себя штаны.
Она как-то решила проверить, способен ли этот француз на обычный коитус. Может, в этом его проблема? Дождалась, когда он заснет, и со свойственными ей изяществом и любовным опытом (мне-то хорошо известно, на что способна умопомрачительная Мадлен!) проникла к нему в штаны. Реакция наступила мгновенно и более чем великолепно. Он очнулся в самый пикантный момент, глубоко вздохнул от наслаждения, а спустя минуту врезал ей по уху.
Больше он не приходил. Видимо, решил, что она не достойна его тонкой душевной организации, потому что вколачивать свой член он мог в любимую супругу-изменницу, в любую другую довольную этим бабу, а вот доверить себя мог лишь девственнице — пусть не в прямом смысле, а лишь — купленной «девственности» по заниженной цене доступного общественного влагалища.
Ее это чрезвычайно оскорбило. Как же, платит за влагалище, а лезет в душу, во всяком случае, навязывают свою. А тут ведь уже другие расценки! Он понял, что его раскусили, и вмазал ей кулаком в ухо. Она еще месяца полтора ни черта не слышала им — была повреждена барабанная перепонка. Правда, француз бросил в постель ее месячный заработок, и она, утерев кровь, не решилась жаловаться на него администрации борделя.
Так вот, мы тоже для наших клиентов своего рода проститутки. Мы не лезем к ним в штаны или под юбку, а они требуют от нас девственности — молчаливой и сочувствующей.
Парк-отель, где я работаю и живу в двухкомнатном служебном номере, уникален. Думаю, он единственный в своем роде и известен в очень узком кругу как парк-отель «Х». Понять, что это, можно, лишь если приглядеться к нашим постояльцам.
Тут, как ни странно, нет VIP-клиентов и VIP-зон. Все потому, что здесь все поголовно VIP-клиенты и все вокруг VIP-зона — от строго охраняемого периметра этой гигантской территории, девственно чистой прибрежной полосы и даже воздушного пространства. Семнадцать огромных апартаментов предназначены семнадцати постояльцам, ротация среди которых является вопросом особой политики нашей администрации. Я беру на себя смелость (а скорее, неосторожность!) рассказать о некоторых наших клиентах, но я никогда, даже под угрозой четвертования, не стал бы откровенничать об администрации и принципах ее существования. Кому она подчинена, как и кем назначается и кто в действительности владеет всеми этими богатствами — вопрос до такой степени закрытый, что только безумец стал бы об этом не то что рассуждать, но даже просто фантазировать.
Ознакомительная версия.