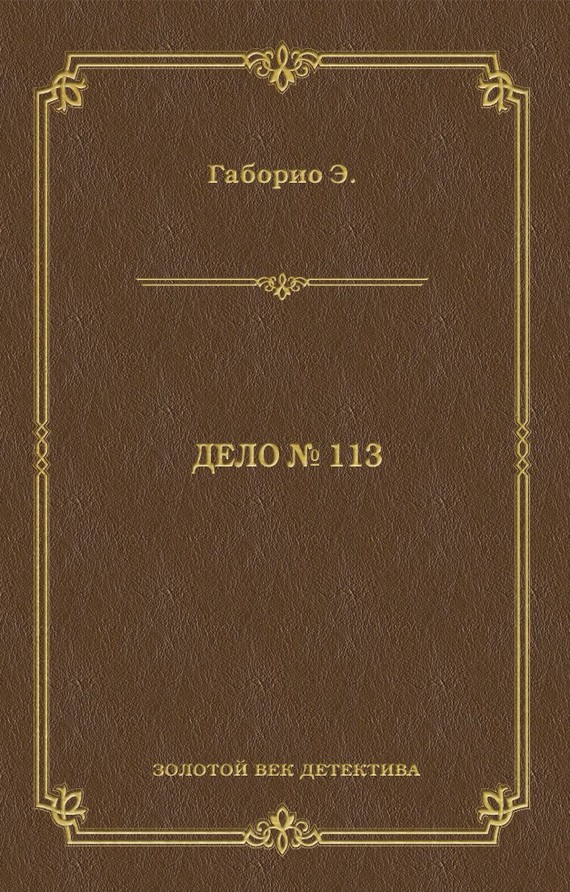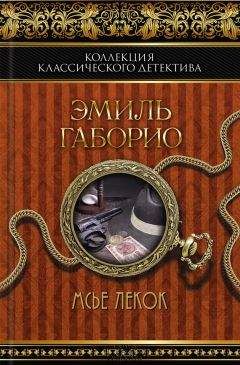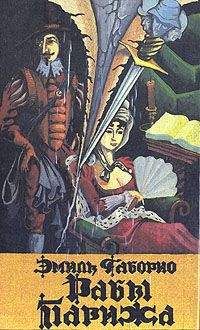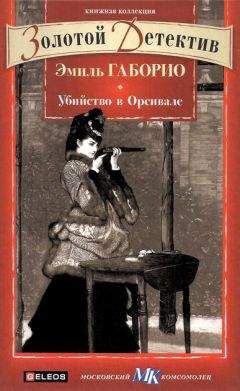в зеленый кафтан, медаль имеет!
– Да ведь это приложимо ко всем комиссионерам сразу! Не сказал ли он тебе, кто его посылал?
– Никак нет. Он только дал мне десять су и сказал: «Неси на улицу Шанталь, дом тридцать девять; сейчас на бульваре мне передал это письмо какой-то кучер».
– А ты узнаешь этого комиссионера в лицо?
– Да, если посмотреть на него, то узнаю.
– Сколько ты зарабатываешь в день?
– Как случится, сударь. Я стою на бойком месте. Может быть, франков восемь или десять в день.
– Отлично, я буду тебе платить каждый день по десять франков только за то, чтобы ты ничего не делал, а только искал того комиссионера. Каждый вечер в восемь часов приходи в гостиницу «Архистратиг» на набережной Сен-Мишель, и я буду платить тебе за твои прогулки. Спросишь Вердюре. А если ты найдешь этого комиссионера, то я дам тебе сразу тридцать франков. Идет?
– Очень вами благодарен, сударь…
– Итак – проваливай! Не трать ни одной минуты зря! А теперь, – обратился Вердюре к кассиру, – пора и к Фовелю! Да и позавтракать было бы недурно!
Рауль Лагор нисколько не преувеличивал, говоря о перемене, происшедшей в Андре Фовеле.
С того самого проклятого дня, когда по его доносу был арестован его кассир, банкир, этот бодрый до наглости человек, впал в меланхолию и был совершенно не способен заниматься текущими делами. Запершись у себя в кабинете на ключ, он стал безучастно относиться ко всему, и все его поступки говорили о том, что какой-то тайный недуг овладел всем его существом.
В тот день, когда Проспер был выпущен на свободу, в три часа, Фовель, по обыкновению, сидел у себя за письменным столом, положив локти на сукно и подперев ладонями лоб, и потерянным взором смотрел перед собою. Как вдруг к нему ворвался из банкирской конторы служитель.
– Сударь! – воскликнул он в страхе. – Там пришли бывший кассир Бертоми и его родственник. Они желают вас видеть непременно!
При этих словах банкир вскочил так, точно около него упала молния.
– Проспер! – воскликнул он, едва владея собою от гнева. – Да как он смел!..
Но, сообразив, что при прислуге неудобно выходить из себя, он овладел собою и холодно ответил:
– Проси.
Если Вердюре и ожидал от этого свидания чего-нибудь любопытного, то его ожидания сбылись. Ничего нельзя было представить себе более страшного, чем позы этих двоих людей, стоявших друг перед другом, – банкир, красный как рак, точно после апоплексического удара, а Проспер еще более бледный, чем раненый солдат, истекающий кровью; безмолвные, дрожавшие, они стояли в двух шагах один от другого и, едва обменявшись взглядами, полными смертельной вражды, готовы были броситься друг на друга. В течение доброй минуты Вердюре с любопытством наблюдал этих двух врагов, чуждый им обоим, и с хладнокровием философа, который даже в самых бурных душевных движениях человека видит только предмет для наблюдения и размышлений, изучал их.
Под конец молчание начинало становиться опасным, он решился нарушить его и обратился к банкиру:
– Вы, вероятно, уже слышали, – сказал он, – что мой родственник выпущен на свободу?
– Да, – отвечал Фовель. – За недостаточностью улик.
– Совершенно верно, милостивый государь. Эта-то недостаточность улик, или, другими словами, это «нахождение под подозрением» настолько портит будущее моего родственника, что он решил удрать в Америку.
При этих словах физиономия Фовеля сразу изменилась.
– Ах он удирает! – повторил он несколько раз. – Он удирает!..
Нельзя было сомневаться в интонации. Слово «удирает» было произнесено с явным намерением оскорбить. Вердюре заметил это.
– Мне кажется, – весело сказал он, – что решение моего родственника довольно резонно. Я хотел только, чтобы перед отъездом он засвидетельствовал свое почтение своему бывшему патрону.
Горькая усмешка пробежала по лицу банкира.
– Господин Бертоми, – возразил он, – мог бы с успехом избавить нас обоих от этой неприятной обязанности. Нечего мне больше выслушивать от вас и нечего мне сказать вам и самому.
Это уже была форменная просьба оставить его в покое, Вердюре так ее и понял, раскланялся с Фовелем и вышел вместе с Проспером, который за все время свидания не проронил ни слова.
И только на улице кассир нарушил молчание.
– Вы этого хотели, – грубо сказал он, – вы настаивали, и я послушался вас. Довольны ли вы? Добыл ли я хотя что-нибудь, прибавив это кровное унижение к тому, что уже испытал?
– Вы – нет, а я – да, – отвечал Вердюре. – Без вас я не мог бы пробраться к банкиру. И я узнал сейчас все, что требовалось узнать: Андре Фовель непричастен к краже.
– А разве нельзя прикинуться барашком?
– Без сомнения, можно, но не в этом отношении. И это еще не все: мне нужно было узнать для некоторых целей, подозревает ли кого-нибудь сам Фовель? И я теперь смело могу сказать, что да.
Они остановились отдохнуть на углу улицы Лафит на месте, только что освобожденном от хлама после сломанного дома. Вердюре казался озабоченным, хотя и болтал, и то и дело оглядывался по сторонам, точно кого-то поджидал. Вскоре он вскрикнул от удовольствия, так как увидел появившегося Кавальона. Тот был без головного убора и бежал. На этот раз он был так взволнован, что не догадался даже поздороваться со своим другом Проспером и подать ему руку. Он прямо обратился к Вердюре.
– Поехали, – сказал он.
– Давно?
– Нет, с четверть часа тому назад.
– Ах, черт возьми! Если так, то нам дорога каждая минута!
И, достав записочку, которую он ранее написал у Проспера, он вручил ее Кавальону.
– Вот, – сказал он ему, – доставьте по адресу и возвращайтесь поскорее к себе, чтобы не заметили вашего отсутствия. Нехорошо выбегать без шляпы: это может возбудить подозрения.
Кавальон не заставил дважды повторять эти слова и бросился бежать. Проспер был поражен.
– Как? – воскликнул он. – Вы знакомы с Кавальоном?
– Как видите, – отвечал с улыбкой Вердюре. – Не стоит об этом говорить, и давайте поспешим.
– Куда еще?
– Узнаете. Идемте же, бегом, бегом!..
И они побежали по улице Лафайет. Добежав до дома № 81, Вердюре сразу остановился.
– Здесь, – сказал он Просперу. – Войдем!..
Они поднялись на второй этаж и остановились перед дверью, на которой была прибита вывеска: «Моды и платья».
Вдоль косяка висела роскошная сонетка, но Вердюре даже и не прикоснулся к ней. Вместо этого он как-то особенно постучал в дверь пальцем, и, точно там кто-то уже заранее дожидался этого сигнала, – дверь отворилась.
Им отперла женщина лет сорока, простая, но довольно прилично одетая, и без всяких разговоров проводила Проспера и его компаньона в небольшую