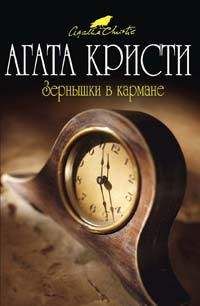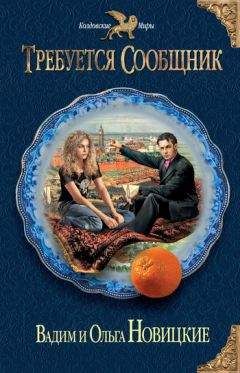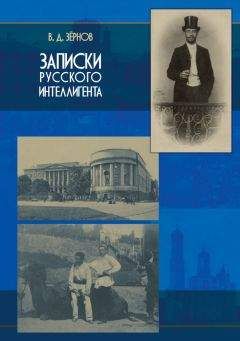— Автаркия больших пространств, — умно щурил глаза полковник Варенцов. — Россия, при ее природных богатствах, способна прожить самостоятельно. Не объединяться мы должны с этим миром, который нас ненавидит на протяжении всей истории и постоянно стремится если не подчинить русских целиком, то, на худой конец, оторвать от наших территорий куски! Наоборот, наше спасение в том, чтобы отъединиться. Закрыть границы, отозвать представителей из всех международных организаций. Именно в то время, когда Россию отгородили железным занавесом, она была по-настоящему сильна. Не будем повторять прежних ошибок.
— Но как это сделать? — спрашивал Феофанов. — Государственный переворот?
Варенцов хмыкал, показывая всем видом, что не исключает подобного развития событий, но заранее оглашать его не следует.
— Во власти есть здравые элементы, — продолжал он так, будто феофановской скороспелой реплики не было произнесено. — Здравые элементы есть повсюду. Не нужно отталкивать от себя людей, кем бы они ни были, чем бы ни занимались. Например, среди многих представителей уголовного мира я замечаю патриотические тенденции. Они могут быть полезны для нас. Они отважны и могущественны. В их числе попадаются настоящие современные рыцари, благородные разбойники…
Соображения касательно уголовников Феофанову не понравились: к этой публике он привык относиться с инстинктивным презрением. Но он тут же упрекнул себя в чистоплюйстве. Во-первых, ни один мало-мальски серьезный политический шаг не осуществляется людьми, ни в чем не запятнанными. Во-вторых, сам Сталин называл уголовников «социально близким элементом», в отличие от враждебно настроенной интеллигенции. Все случается! Должно быть, Феофанов еще многого не понимает. Варенцов разбирается в политике лучше.
Нравственность в политике — вещь относительная. Наш противник не стесняется в средствах, не будем же стесняться и мы! Мы слабее, нам позволено применять даже суровые меры. Даже, на слюнявый, либеральный взгляд, жестокие… Ведь, в конце концов, мы жестоки и к себе. Мы — племя героев.
Правда, Феофанов не забыл, как он себя чувствовал, когда пришлось похищать оборудование для взрыва. Хотя Варенцов подробно описал ему расположение нужных компонентов на складе, и дал тысячу инструкций, и уверил, что в случае провала Феофанову лично не грозит ничего, тем не менее при одном вступлении на складскую территорию феофановские внутренности скрутились в один ледяной спазмированный ком, а в голове тоненько зазвенела высоковольтная линия. Откровенно признаваясь, он чуть не сбежал. Но ведь он преодолел страх? Да, преодолел. Герой не тот, кто не боится, а тот, кто побеждает вопреки боязни.
Здесь, на берегу пруда, в предночной час, когда мысль обретает алмазную ясность и остроту, Феофанову открылось величие варенцовского замысла. Да, взрыв! Именно взрыв способен затронуть косный покой несправедливого общества! Кого-то он оглушит, но кого-то пробудит от спячки. Современная Россия держится на соединении двух ненавистных для Феофанова китов: ельцинской коррупции и брежневской пропаганды, убаюкивающей обывателя сладкими россказнями о том, как у нас все хорошо. Начнем со второго кита: взрыв, показывающий, что до благополучия России далеко, не в силах замолчать даже продажные средства массовой информации. А там и по коррупции доберемся.
В сумерках Екатерининского парка противоположный берег пруда рисовался темным, мохнатым, монолитным. В очистившееся от туч нёбо взобралась необычно огромная и розовая, по осеннему времени, пуна, обещая потепление. Феофанов встал и меланхолично побрел по аллее.
— По-моему, политика!
— Нет, а по-моему, типичная уголовщина!
Вячеслав Иванович Грязнов и Александр Борисович Турецкий спорили во все горло, будто сошлись в схватке завзятые враги. Посторонний человек так и подумал бы. Он не знал, что повышение голоса у давних друзей и соратников способствует наилучшей обкатке проблемных версий и что каждый из них не так уж рьяно отстаивает именно свою гипотезу. Просто-напросто, чтобы прийти к согласию, иногда не вредно хорошенько размежеваться.
Минут пятнадцать назад Слава Грязнов ввалился в кабинет Турецкого без предупреждения, на ходу постучав костяшками пальцев о косяк. Славино улыбчивое лицо рассиялось так, словно за плечами у него висел мешок с подарками.
— Здравствуй, Дедушка Мороз, — вздохнул Турецкий, успевший только что получить втык от Кости Меркулова за неосторожное обращение с подозреваемыми: кляузник Чернушкин, стремясь уменьшить неприятности, наябедничал, что следователь прокуратуры испугал его вплоть до попытки выпрыгнуть из окна. — Где ж твоя борода из ваты?
— С бородой обождешь до зимы, — торжественно провозгласил Грязнов, — а сюрприз у меня для тебя имеется. Один мой способный человечек, опер Володя Яковлев…
— Сын того самого Яковлева?
— Ну да. К тому же и тезка. Но дело не в том… Словом, изъял он пленку из служебного телефона Питера Зернова и вчера вечером дома прослушал. Сегодня прибежал ко мне в полной горячке: говорит, это срочно должно попасть на стол следователю из Генпрокуратуры…
— А где ж он сам, твой Володя?
— Унесся спасать какого-то адвоката Берендеева. Да, вот тут записи какие-то у него. Сопроводительные. То есть разъяснительные.
Пакетик с изъятой пленкой в самом деле сопровождал тетрадный лист. Начертанные округлым школьным почерком, по нему плясали хаотические слова:
«Интервью нечестного богатства. Берендеев искал старую папку, в опасности. Английские ссоры и ругательства. Забинтованная русская девочка».
И, на отдельной строке, заглавными буквами:
«ПИТЕРУ УГРОЖАЛ МАТЕРЫЙ БАНДИТ!»
— Хм, — сказал Турецкий, которого по-прежнему ничто не радовало, — разъяснил, нечего сказать. Шифр какой-то. Слава, этот Володя у тебя вообще… ну, словом, как он? Как вы друг друга понимаете?
— Да говорю же тебе, отличный опер! Только уж больно старательный. Пытается везде успеть, вот и спешит не в меру. Главное, он пытается привлечь наше внимание к бандиту, который Питеру угрожал.
— Да? А меня вот больше занимают старые папочки и забинтованные девочки. Мне отродясь такого не встречалось. Давай, генерал, сядем и прослушаем все по порядку. Володя наверняка самое важное упустил.
— Володька ничего не упускает, — для проформы пробурчал Грязнов, который конечно же согласился.
Прослушивание пленки, породившей торопливые заметки опера Яковлева, и привело к громогласному столкновению двух старых друзей.
— Питера убили из-за раскрытия политических и экономических тайн, — настаивал Турецкий. — А политика — продолжение экономики иными средствами.
— Какой философ это сказал?
— Я сказал! Смотри: как только Питер взялся за тему преступлении во имя богатства…
— А бандитские угрозы? Бандиты, они, по-твоему, богатеют честным путем?
— …И по-английски неспроста болтали об инвестициях. Я не знаток английского, но то, что собеседник Питера всю дорогу повторял «investment», «investment», даже я способен разобрать. Кстати, голосок англоязычного собеседника мне знаком…
— Да как же тут отделить политику с экономикой от бандитизма, — завопил Слава Грязнов, напрягая горло до побагровения, — когда у нас в стране они никак не отделяются!
Турецкий осел на свой служебный стул. Его азарт улетучился.
— Слава, — устало молвил он, — ты изрек превосходный афоризм.
— Никакой он не превосходный, — так же устало ответил Грязнов. — Мы с тобой из кожи должны лезть, чтобы этого не было.
— Да, кстати, о забинтованной девочке на пленке ничего не записано. Приснилось Яковлеву, что ли?
— А что ты, Саша, сказал насчет собеседника, голосок которого тебе знаком? А, Саша?
Турецкий уперся взглядом в какую-то точку над Славиной головой.
— А, да так, — равнодушно ответил он. — Посол это… американский… то есть пресс-атташе…
На самом деле Тимоти Аткинс, чьи бранчливые интонации запечатлела пленка, в данную минуту отступил для Турецкого на второй план. Ему буквально ввинчивался в мозг другой голос, серый и невыразительный, который отчитывал Питера за последние публикации и ставил, ему в пример его же книгу о Корсунском. Володя Яковлев не обратил внимания на этот фрагмент записи, поскольку плавал в водах отечественных властных структур мелко и недолго. А следователю по особо важным делам был отлично знаком и этот голос, и этот человек. Он не представился — стало быть, и Питер узнавал его с единого слова.
Да-а, вот уж кого Турецкий никак не ожидал услышать в такой ситуации…
Не дозвонившись адвокату Берендееву ни по рабочему, ни по домашнему телефону, Володя Яковлев заподозрил самое худшее. К сожалению, одна из особенностей нашей жизни заключается в том, что дурные предчувствия имеют тенденцию сбываться, а надежды на лучшее не сбываются почти никогда. Осведомленный об этом мировом свинстве Володя, придя на работу на следующий день, около десяти утра позвонил в контору, где работал Берендеев.