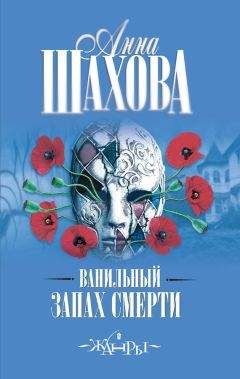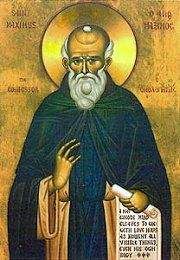– Ну, с многодетными священниками понятно, но на что вам, собственно, деньги? – не моргнув глазом, поинтересовался Быстров. – Разве монахи имеют свое имущество, накопления? Кормят-поят-одевают вас в обители. Содержите родителей? – Слова Сергея Георгиевича были вполне издевательскими. Так, во всяком случае, воспринял их «нервический попик».
– Если до вас, господин следователь, дошли слухи о моей коммерческой, как вы выразились, деятельности, то о моей личной жизни вас тоже уведомили, надо думать, – Иов возвысил голос.
– Обмолвились на сей счет. Не скрою. – Удав-Быстров смотрел на кролика-Иова испытующе, не моргая.
– Да! У меня две дочери. Близнецы. Им по девять лет. – Он заговорил тихо, опустив глаза. – Они живут в Эм-ске, со своей матерью. Она помогает мне с лавкой, которая не дает вам покоя. Уж этим троим точно нужно на что-то существовать.
– Роковая страсть? – удав сочувственно хмыкнул, но хватку не ослабил.
Монах вскинул руки, хотел вскочить, но пространство «допросной» этого явно не позволяло, и он как-то обреченно обвис на стуле, раздраженно забормотав:
– Во-первых, это не ваше дело. А во-вторых, ну какая страсть. О чем вы? Случайность, слабость. Влюбленные женщины бывают очень, знаете ли, активны. А я, какой из меня герой-любовник? Ну, вы посмотрите?! – Он растопырил руки, оглядывая себя с недоумением и приглашая следователя оценить его сексуальную безынтересность.
– Я смотрю. Внимательно. – Удав был непрошибаем.
– Хотите начистоту? – разозлился Иванов, хлопнув руками об стол и сверля маленькими карими глазками Быстрова.
– Я никогда никого не любил. Даже родителей. Кстати, и заповедь не говорит: «люби родителей». Говорит – «чти»! Вот я и почитал. Тех, кого надо. А мне самому всегда требовалось только одного. Покоя. И минимального, примитивного комфорта. И чтобы никто не допекал, не лез в душу. Я ненавижу семейную жизнь! Понимаете? Все эти мусю-пусю, две половинки, «в горе и радости», и прочий бред. Я не хочу никому говорить «доброе утро», не хочу делиться «наболевшим», вести хозяйство, возить коляски с орущими младенцами. И физически я холодный человек. Конечно, увлекаюсь. А как можно устоять перед такой, как Галина? Вы видели ее?!
Монах все-таки вскочил, но тут же рухнул на стул.
– И я всегда, с детства, когда меня еще начала водить в церковь бабушка, хотел быть священником. Я был влюблен в церковь! Не хотел выходить из храма. Это – мое, понимаете? Вот вы говорите – коммерция! На вашем лице так и читаю: «присосался к монастырю, клоп, и к погибели монашек несчастных тянет. Нет чтобы делом заняться, а не наводить тень на церковный плетень». А я не только больше ничего не умею, но и НЕ-ХО-ЧУ делать. Я держусь за Престол Божий! И мне наплевать, понимаете вы меня или нет. Вера – она ведь не синоним нравственности, знаете ли! Если б в Церкви позволялось служить только безгрешным агнцам, ее вообще уже не существовало – на пару-тройку приходов попов набрали ли бы, и все. Вообще Церковь, дабы вам было известно, это сборище грешников. А праведники все, как сказал очень остроумно один священник, в консерватории! Малера слушают.
– Неужели во всей Русской православной церкви нет неблудливых, милосердных, нестяжательных священников? – Сергей Георгиевич, бросив ручку, с силой стряхнул невидимые крошки со стола. – А как же все эти духовники, сестричества, приюты, кормежки бомжей? Почему ж в ГУЛАГ, на поселения верующие за священством шли? За красивые глаза? Знаете, я хоть человек нецерковный, но отказываюсь, слышите – отказываюсь верить в сплошную грязь и обман попов. Тогда в Церкви нет вообще никакого смысла, и большевики были правы, пытаясь стереть с лица земли эту «плантацию опиума». А я ненавижу большевиков! Вернее сказать, революционЭров любого пошиба. Вот они, в моем представлении, настоящие бесы.
– Ну, вы слишком утрируете, – беседа, выросшая в столь эмоциональный духовный диспут, придала Иову привычной уверенности. – Конечно, «вера без дел мертва». И я знаю множество, да просто подавляющее большинство священников, добрых пастырей.
– Значит, вы пытаетесь всячески оправдать свою якобы нравственную исключительность? – Быстров вновь смотрел на Иова взглядом удава.
– Да что вы понимаете?! – взорвался священник. Его баритон загремел похлеще, чем на проповеди. – Не вам в церковные и монашеские дебри лезть! Вы судом земным занимайтесь. А высший предоставьте Господу. Он видит мои грехи, но и мое покаяние он тоже видит. Видит! Знаете, кто первым вошел в рай? Разбойник, распятый по правую руку Христа – убийца, нелюдь! За одну фразу раскаяния его Христос простил! Да что я вам… Что вы знаете-то о покаянии?! – Руки Иова ходили ходуном, волосы прилипли к потному лбу, глаза расширились, горели и впрямь каким-то мистическим огнем.
И тут Быстров разозлился окончательно. Ему стал невыносим этот дрожащий монашек. Стала противна эта пыльная, заваленная священными книгами комната. Книгами, благовестие которых не пропитывает и освящает жизнь «иовов», а превращается в высокопарную казуистику.
Сергей Георгиевич стремительно встал из-за стола, неуклюже, сбивая книги, протиснулся в коридор, подошел к узкому окну, выходящему на южную сторону монастыря, к огородам. Посреди серого комковатого поля две склоненные фигурки в светлых косынках казались замершими, нарисованными. Пасмурный день прибивал яркость цвета, и видневшийся на горизонте лес представлялся сумрачным, диким бором, вступив в который уж точно не найдешь дороги назад. Болезненно приникший к стеклу Быстров задавался мучительными, какими-то неуместными для него вопросами. Но ответ на них – ясный, убедительный, вернул бы покой его сердцу и порядок мыслям: «Ну почему, почему маньяк, терзавший детей и убивший их, после десяти лет “строгой одиночки” в панике и страхе бросившийся звать священника, попадет в рай, а мальчишка, тот, от дела которого Быстров отказался полгода назад, за что и получил выговор, – попадет в ад?! Этот подросток Колька из нищей семьи алкоголиков, которые гасили об его шею окурки и не кормили по три дня, с отчаяния, обезумев, разбил окно пивного ларька и вытащил из кассы шесть тысяч рублей. Он хотел купить билет на поезд, чтобы осуществить мечту, доехать до моря и броситься на песок. Смотреть на прибой, о котором так красиво поют и снимают фильмы, и забыть о боли и нелюбви. А его поймали, избили и приговорили к трем годам колонии, так как при задержании он отчаянно сопротивлялся и чуть не отгрыз оперу палец. Но мальчишку не посадили, потому что он разорвал в лоскуты футболку, сплел их в веревку и удавился. Не покаявшись… И попал в ад! Или за страдание тут положены бонусы?»
Впрочем, Быстров научился подавлять эмоции и непродуктивные в его работе поиски смыслов достаточно быстро, поэтому через пару минут уже решительно отвернулся от окна и в три шага оказался в душной библиотеке. Он снова был спокоен и внимателен. Иов сидел, запрокинув голову, с закрытыми глазами. «Молится или образ блюдет?» – скептически посмотрел следователь на монаха. Гортанно откашлявшись, детектив сел на стул.
– Игорь Максимович, отвечайте на вопросы четко и лаконично, – следователь хлопнул по столу сцепленными в кулак ладонями. – Кто может подтвердить ваше присутствие в том или ином месте двадцатого и двадцать второго апреля?
Монах напружинился, собрался, поняв, что душеспасительным беседам пришел конец:
– Двадцатого весь день я был в квартире Любы. У своих детей я был.
Сергей Георгиевич записал адрес и телефон ивановской семьи.
– Но я был один до вечера. Люба работала в Москве, в лавке. Вера с Надей, дочки мои, в школе, и потом на фитнесе и в бассейне – спорткомплекс прямо рядом со школой. Они мне позвонили, сказали, что придут в семь, так как после тренировки будут делать уроки у одноклассницы. Словом, почти до половины восьмого я был один. Отсыпался.
– Понятно. Нет алиби. Двадцать второго апреля были на коровнике?
– Знаете, это просто звучит как издевательство. Что мне там делать?!
– Яд подложить в стакан Калистрате, которая хотела и могла раскрыть ваши манипуляции с монастырской лавкой. А может, и с миллионами. Сегодня получено заключение экспертизы: Клавдию Сундукову отравили клофелином. Убийство у вас тут, Игорь Максимович! В святой обители.
Монах вдруг завопил, как под пыткой:
– Да не был я ни в каком коровнике! Никаких стаканов-банок знать не знаю! Это все какая-то несусветная чушь! Бред это все какой-то! Вы сами-то в него верите?! – монах кричал, потрясая руками у самого лица следователя.
– Я все должен проверить, – отстранился Быстров. – Подозрения веские. Более того, пока вы у нас главный подозреваемый. Не считая монахини Евгении. Игорь Максимович, я беру вас под стражу на двое суток, до полного выяснения всех деталей. Машина у ворот. – Следователь, вставая, нависал над сжавшимся, раскрывшим рот Иовом, как неотвратимый дамоклов меч.