— Но, прежде чем перейти к деталям операции, я хочу знать вот что, — всё так же буднично, деловито продолжил Зепп. — Вы согласились участвовать в очень рискованном деле. Возможно, нам всем суждено погибнуть. Я-то немец, кадровый военный, со мной ясно. Но я должен знать, почему в этом деле участвует каждый из вас. Прошу говорить правду. Если чей-то ответ покажется мне неискренним, отправлю восвояси. Ясно?
Настороженное молчание, взгляды искоса по сторонам. Они ведь друг друга совсем не знают. Впервые видят.
— Итак, почему? — начал майор с украинца, потому что тот сидел на передней парте.
— Ради свободы Украины, — коротко, без пафоса сказал Чуб. Будто его спросили, сколько времени, а он ответил.
— Вы? — Зепп посмотрел на Маккавея — этот сидел на третьей парте, за Финном, но северный человек морщил лоб, а еврей сам поднял руку.
— Я представитель угнетенного народа. Мне есть за что посчитаться с Николашкой. За погромы, за черту оседлости, за унижение, за…
Он продолжил бы и дальше, но Теофельс жестом и кивком показал: спасибо, ясно.
— А вы? — Он смотрел на поляка.
— Za niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej! Dla zrzucenia jarzma rosyjskiego! [8] — воскликнул, поднявшись, Кмициц. Порозовел, сел.
— Вы?
Теперь Финну было легко, после стольких подсказок.
— Я тозе. — Подумав, он счел необходимым все-таки прибавить. — За свободу Суоми от российского ярма, вот.
Теофельс разглядывал Ворона.
— Но вы-то русский. Почему вы здесь?
— Да, я русский. И я сделаю это ради свободы России.
Ишь, глазами-то сверкнул. В связные его, никаких сомнений. Такой живым не дастся. А значит, и не выдаст.
Свой вопрос Зепп задал, конечно, не в расчете на правдивый ответ. Важно не что человек говорит, а как. Что ж до настоящей причины, побудившей вас ввязаться в это, прямо скажем, гиблое дело, то знаю я вас, тварей божьих. У каждого есть какой-то истинный резон, да ведь не скажете, а может, и сами его толком не сознаете.
«Ну а сам ты? — спросил себя Теофельс. — Не ради же Германии? Тогда почему?»
А потому что на свете существует только одна вещь, ради которой стоит жить и умереть: победа. Есть победа — умереть не жалко. Нет победы — незачем и жить. Ну а кайзер и Deutschland-über-alles [9] — пустое.
Но про это тс-с-с. Passons [10].
Генералъ-маiоръ Дубовскiй
На карточке был указан только чин, без должности. Фамилия генерала, занимавшего четвертое купе, Алексею была незнакома. Густой, звучный голос за дверью с выражением декламировал:
— …При виде раненого героя слезы умиления выступили на прекрасных глазах государя. «В твоем лице, мой храбрый друг, я лобызаю всю Россию», — возгласил помазанник Божий и запечатлел на челе солдатика августейший поцелуй.
— Это что? — шепотом спросил поручик. — То есть кто?
— Еще один… сочинитель. — Лицо полковника оставалось невозмутимым. — Генерал свиты его величества. Ведет летопись высочайших поездок. Но не для связей с общественностью, а для истории.
— И этим занимается генерал?
— В отставке.
Алексей не мог взять в толк.
— И что, для летописца необходимо держать купе в поезде сопровождения? Здесь же места наперечет!
Наконец полковник объяснил так, что стало понятно:
— Господин генерал — старинный приятель государя. Раньше он вообще располагался в литерном «А», но бывает… невоздержан, поэтому переведен сюда. Однако очень часто, особенно при перегонах в вечернее время, находится при особе государя.
— Читает свою летопись?
— Нет. Играет с его величеством в домино, — поколебавшись, выдал государственную тайну Назимов. — Сейчас я вас представлю.
И постучал в дверь, за которой все рокотал прочувствованный бас.
— Войдите! Кто там?
За накрытым белейшей скатертью столиком, где переливался гранями хрустальный графин и стояла закуска, сидел краснолицый генерал с седым бобриком и черными усами-стрелками. Его шея была повязана салфеткой. В одной руке обитатель четвертого купе держал исписанный каракулями лист, в другой, на манер дирижерской палочки, куриную ножку. Рядом в почтительной позе стоял лакей в ливрее с императорским орлом и держал наготове крохотный серебряный подносик с рюмкой.
Назимов представил поручика, снова аттестовав его своим новым помощником. Генерал велел звать его попросту, Апполинарий-Самсонычем, слуга же оказался камер-лакеем, приставленным обслуживать свитский вагон литерного поезда «Б».
— Вот, зачитываю Федору из последнего, — помахал Дубовский листком. — Про посещение государем полевого госпиталя. Присаживайтесь, неутомимейший полковник. И вас, молодой воин, милости прошу. Налей им, Федор, коньячковского. Вы только послушайте, господа. — Взмахнув куриной ножкой, генерал прочитал. — «За ваше величество не то что ноги, самое жизни отдать не пожалел бы!» — вскричал калека, потрясенный до глубин души…
И прослезился, дрогнул голосом.
— Благодарю, ваше превосходительство, — поспешил воспользоваться паузой полковник. — Я только представить поручика. Надобно идти — служба.
Дубовский мигнул лакею Федору, чтоб закрыл дверь.
— Бросьте. Как говорят китайцы, «Слузьба слузьбой, а друзьба друзьбой». Как угодно, а без рюмочки не выпущу. Приказ старшего по чину.
Гирш
Человека, которого майор фон Теофельс знал под кличкой Маккавей, на самом деле звали Гирш.
Всё происходящее ему очень не нравилось. Гиршу вообще редко что нравилось, потому что мир устроен по-идиотски, и радоваться в нем, по правде говоря, особенно нечему.
Немец (по физиономии видно, что типичный пруссак и антисемит) задал принципиально важный вопрос и даже не дал на него по-человечески ответить. Скоро, может быть, на смерть идти, а никому нет дела до мотивов, толкающих тебя на самопожертвование.
Гирш собирался сказать своим товарищам по судьбе то, о чем давно думал.
Когда хочешь уничтожить вредный сорняк, истощающий почву, нет смысла тратить время и силы, обрывая листья и стебли, — только руки о колючки поранишь. Нужно браться за корень и выдергивать его из земли. Вот к какому выводу пришел тот, кто начинал с бессмысленной стрельбы по дикарям-погромщикам и постепенно дошел своим умом до окончательного логического вывода. Корень всех несчастий несчастной страны — царизм, то есть проблема персонифицирована в личности одного, притом вполне смертного человека.
Не хотите слушать — не будем метать бисер. Однако все же нужно показать немцу, что он разговаривает не с призывниками, а с добровольцами, которые имеют право не только отвечать, но и задавать вопросы.
Гирш снова поднял руку.
— Почему вы спросили о причинах только нас пятерых? А китайца? И вот этих двоих?
— Потому что их мотивы мне известны, — пренагло ответил немец, помусолив жидкую бороденку.
— Нам тоже хочется знать. Перед лицом смерти все равны.
Гирш был доволен, что такая важная вещь произнесена вслух. Должен же был кто-то высказаться за всех.
Немец чему-то улыбнулся.
— Раз хочется, спросите сами.
Китаец был совсем еще ребенок.
— Чем тебе царь не угодил? — спросил его Гирш.
Подросток не ответил. Поглядел пустыми щелочками, прикрыл веки. Может, он и по-русски-то не понимает. Ничего себе соратничек!
— Ну, а вы что скажете? — обратился Гирш к туповатому на вид жердяю и к улыбчивому толстяку, которые сидели бок о бок.
Дылда пожевал губами и просто повторил:
— Не укодил. Да.
А щекастый сделал комичную рожу:
— Без царя веселей.
— Послушайте, — начал закипать Гирш. — Мы все на вопрос герра Епиходова отвечали всерьез, так извольте и вы…
— Хватит разговоров, Маккавей! — оборвал его немец. — Для первого знакомства довольно. Я знаю, что все вы волонтеры, но дисциплина есть дисциплина. Никаких препирательств. Любые споры и дискуссии только по моему разрешению. Кто не согласен — уходите прямо сейчас.
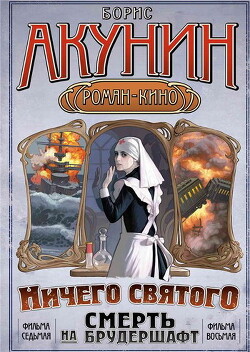
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма 7-8) [«Мария», Мария… + Ничего святого]](https://cdn.my-library.info/books/257840/257840.jpg)



