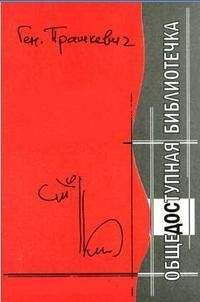Ознакомительная версия.
– Зачем? – Иваньков откровенно торопился.
– Вы поймете.
Роальд вынул из стола крошечный диктофон.
Иваньков замер.
«…Я в кафе „Веснушка“ сидел. Ко мне под-дошли, налили. Ну, говорят, хорош… Нам, говорят, надо кореша подкузьмить. Он шутку любит и песни… Я говорю, я не знаю песен… Я петь не умею… Да и н-не надо, мне говорят, не пой. Нам шутки нужны. Веселые шутки, прибаутки и розыгрыши. Не за бесплатно, мы ж понимаем. И, значит, наличными в руки!.. Я т-таких денег в жизнь не видал!.. И баба там, значит. Всех-то трое было. Смазливая, смеется. Я таких баб только во сне виж-жу, и то, когда им самим присниться з-захочется. Смеется, присматривается. Деловито… Здесь, там, везде потрогала, я и дышать боюсь Спрашиваю, а ч-чего шутить? А баба смеется. По ресторанам, говорит, походи. Выпей, закуси сколько влезет. Я говорю, в меня м-много влезет. Она смеется, вот и хорошо! И пусть много! Мы тебе костюмчик хороший справим, чтоб ты мог в самые шикарные кабаки заходить. И трость д-дадим. Что или кто не понравится, сразу этой тростью!.. Недельку погуляй… По дорогим ресторанам, по тихим кафе. Где публика поинтеллигентней. Как вроде с деньгами, а огорчен. С-сильно огорчен, не просто пьешь, бабу ищешь. Собственную, не чужую. Она т-тебе вроде рога приделала, вот ты и сердишься, ищешь, хочешь, как человек известный, женщину укорить. Так и ори, где, з-значит, та блядь в бантиках? Где, значит, та баба неверная! Ну и проч-чая, сам придумаешь… Я и ору… М-мужики, ч-честно ору!..»
Иваньков сидел вполоборота к Шурику. Шурик видел, как его щека медленно багровела. Правда, наконец, дошла до него. Он сразу погрузнел, плечи опустились. Лучше бы Иванькова переспала с кем, – подумал Шурик, чувствуя угрызения совести.
"…Верим. Сами видели… Ты о деле давай. Детали баба обсказывала?… Бабу как звать?
– Так чего ж… К-какой сек-крет… Известная баба… Шутка ведь… Раз мужик скурвился, надо ж прищемить мужика… Она так сама сказала… С-скурвился, мол, может, еще спасем…
– Имя выкладывай.
– К-какое имя?
– Бабы, которая шутить наняла.
– Ч-чего ж неясно-то? Если я Иваньков… Не П-петрову, не Иванову же мне кричать…
– Ну?
– Д-да Иванькова! Ч-чего ж тут?…"
Роальд выключил диктофон.
Шурик с сочувствием следил за Иваньковым.
Иваньков держался здорово.
Он только кивнул, но в глазах его опять что-то горело. Расплачется, решил Шурик. Сломался мужик.
– Послушайте, – быстро сказал Иваньков и быстро и деловито оглянулся на Шурика. – Я вам заплачу. Я вам хорошо заплачу. Мне немедленно нужна эта пленка. Я хочу забрать ее прямо сейчас. Я прямо сейчас позвоню, чтобы привезли деньги. Наличкой. Без всяких бумаг. Назовите сумму и она ваша. Контора у вас, – кивнул Иваньков, – бедно обставлена.
Он не расстроен, удивился Шурик. Он нисколько не расстроен, ему плевать на жену. Ему теперь пленка понадобилась. Даже на контору обратил внимание.
Так же, наверное, подумал и Роальд.
– Я не могу продать пленку.
– Почему?
– Это политика. Это выходит за наши рамки. Нас интересует криминал. Продай я вам эту пленку, вы же первый мне это припомните, если дорветесь до власти. И будете правы, ведь мы этим самым влезли в политику. А мы в нее не хотим влезать. Единственное, что обещаю, пленка будет уничтожена.
– Но ведь это на руку Неелову! Вы сами говорили, что готовы проголосовать за меня.
– Я говорил, что готов проголосовать за пахоту. – грубо возразил Роальд. – К данной проблеме это никакого отношения не имеет. Мы политикой не занимаемся.
Козлы!
Никаких других слов у Шурика не было.
Ну, не козлы? Муж и жена! Что делить мужу и жене? Один пашет, другая валяется на теплом берегу. Зачем копать друг под друга, загонять в угол? Что там такое, в грядущей власти, наконец, в самом этом будущем, определяемом такими способами?…
Ответить на это Шурик не мог, да и не сильно хотел. Роальд приказал ему выспаться, но Шурик лучше знал, как использовать свободный день, выпавший будто в лотерее. Во-первых, пиво! Расслабиться… Во-вторых, спать…
Он заглянул домой и сварил кофе, стараясь не глядеть на бумажку, булавкой пришпиленную к ковру.
Значит, заходила…
Он был удивлен: на сердце не потеплело… Могла дождаться… Не дождалась…
Ну и что? – спросил он себя. Сима и раньше так делала. Заглянула, ушла. Хуже, когда она приходит и за весь день не произносит ни слова. Такое тоже бывало.
Если оставила записку…
Но раньше она никогда не оставляла записок. Он даже не знал, какой у нее почерк. Он вообще о Симе ничего не знал, кроме того, что для него ее появление что-то меняло в мире. И, судя по всему, существенно.
Сыщик! – усмехнулся он. Тоже мне проблема – выяснить номер телефона!..
Но он хотел, чтобы она сама сказала ему свой номер…
Шурик медленно успокаивался.
Иваньковы – козлы. Иваньковым так им и надо. Они за власть дерутся. А я?… Я за что дерусь?…
Глядя, как над кофейником поднимается коричневая шапка пены, Шурик бессмысленно улыбнулся.
Просто так… Хотя нет… Мелькнуло в голове какое-то воспоминание… Что-то смешное, давнее…
Он вспомнил.
Как-то в день солнечный, жаркий, он шел по скверу и вдруг увидел на асфальте стрелу. Начертанная мелом, она указывала в густые заросли сирени. У наконечника четко прочитывались слова: «Там хорошо». Вот он и отвел ветки в сторону, чтобы посмотреть, где это так хорошо, что хорошего ни для кого уже и не жалеют?
Он увидел тенистую полянку, в траве спал самый обыкновенный бомж. На его груди лежала картонка с надписью: «Разбудить без четверти три».
Бомж был рыжий, рыхлый, даже во сне он выглядел замотанным, часто лез рукой в запущенную бороду, чесался. Взглянув на часы, Шурик ногой толкнул мужика: «Вставай. Уже четыре».
Бомж вытаращил злые глаза:
«Ты хто?»
«Я прохожий».
«Не мент?»
«Нет».
«Тогда отвали. Выспаться не дают. Ты сегодня уже четвертый».
«А какого черта записку оставил?»
«Записку? – бомж с отвращением сорвал с груди картонку. – Это Анька, сука. Не нравится ей, ее место занял».
Тоже борьба.
Сварив кофе, он сделал несколько глотков, блаженно закурил и, наконец, дотянулся до записки.
Округлый почерк, типично женский, летящий, но со странными спадами – вдруг запятая оказывалась гораздо ниже того места, где ей полагалось находиться, вдруг заглавные буквы выглядели искривленными.
Ничего не понимая, он прочел.
Воздай, о, Господи, зверю,
тоскующему в окне,
по той неизменной вере,
какую питает ко мне…
Стихи? Он, правда, ничего не понимал.
Единственным занят делом —
быть рядом – мой брат меньшой,
доверившийся всем телом,
прижавшийся всей душой.
Весь мир его – до порога,
весь свет для него – окно,
бескрайней идеи Бога
постичь ему не дано.
У зверя – малая мера.
Но молча, день изо дня,
он верит. И эта вера
спасет его и меня.
Шурик чуть не заплакал.
Он, правда, не понял ни единого слова.
Я, наверное, дурак, сказал он себе. Это же по-русски, а я ничего не понял. Какой зверь? Почему надо дивиться тому, что до зверя не доходит некая идея? Что зверю до человеческих идей? Разве я сам что-нибудь в этом смыслю? Зачем вообще этот стишок? Зачем Сима стишок к ковру приткнула?
Он мучительно пытался вникнуть в содержание. Дурацкая жара. Ни единое слово до него не доходило. Это Врач, наверное, понял бы. Или Роальд. А до него, до Шурика, ничего не доходит. Какая вера? Зачем?
– Ладно, – сказал он вслух, откладывая записку. – Что-то я не в себе.
И позвонил Лерке.
Он этого давно не делал, Сейчас тоже не надо было звонить. Но что-то толкнуло его к телефону.
Трубку долго не брали, потом Лерка сказала:
– Слушаю.
Голос звучал нетерпеливо, может, она куда-то торопилась.
Он спросил:
– Как ты там?
Лерка сразу обиделась:
– Не звони мне больше.
– Ты не одна?
Лерка обиделась еще больше:
– Не звони мне больше. Лови преступников.
– Каких преступников? – не понял он.
– Ты не знаешь? – Лерка злилась по-настоящему. – Весь город только и говорит, что дети теряются. Вот и лови преступников!
И добавила:
– А мне не звони.
И повесила трубку.
Шурик подумал без удивления: я, кажется, и в Леркиных словах ни хрена не понял. Что это со мной?
Он допил кофе, выкурил сигарету, и одним глазом посматривая на диван, будто на нем вот-вот материализуется его Даная, вышел на улицу.
Дойду до парка… Возьму пива, свиной шашлык… Какие, собственно, поводы для тоски?… Не Иваньковых же мне жалеть…
Он нашел хорошее местечко.
Ознакомительная версия.