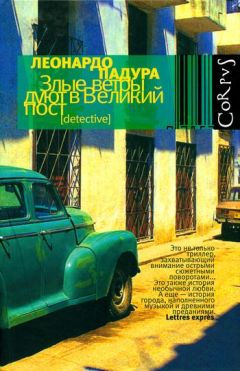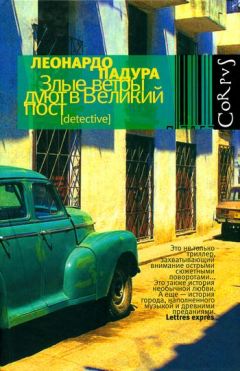— Знаешь, почему ты согласился? — с довольной улыбкой спросил Маноло и взглянул на Конде. Неожиданно его правый глаз скосился к носу. — Потому что сукин сын навсегда останется сукиным сыном, сколько бы он ни каялся в своих грехах и ни исповедовался. Точно так же и некий мерзкий тип, бывший когда-то полицейским, полицейским и останется. Вот в чем дело, Конде.
— Для чего ты плетешь мне всякую чушь, вместо того чтобы рассказать что-нибудь интересное? С тем, что я знаю, невозможно приступить к делу…
— Так ведь другого ничего нет и, думаю, не будет. Сорок лет прошло, Конде.
— Скажи мне правду, Маноло… Кто заинтересован в этом деле?
— Правду и только правду? Пока что ты, покойник, Хемингуэй и, пожалуй, больше никто. Знаешь, для меня все яснее ясного. У Хемингуэя был вспыльчивый характер. В один прекрасный день кто-то его так достал, что он всадил в этого типа пару пуль. А потом закопал труп. Никто мертвеца так и не хватился. Ну, а потом Хемингуэй выстрелил себе в голову, и на этом история закончилась… Я позвал тебя, потому что знал, что она тебя заинтересует, и хочу немного выждать, прежде чем закрыть это дело. А когда оно будет закрыто и появится соответствующее сообщение, вот тогда-то историей с трупом, похороненным в усадьбе Хемингуэя, заинтересуются многие, о ней напишут в газетах разных стран…
— И само собой, им будет приятно сообщить, что Хемингуэй оказался убийцей. А если убил не он?
— Как раз это ты и должен будешь выяснить. Если сумеешь… Понимаешь, Конде, я загружен работой по самое… — Он провел рукой на уровне бровей. — Положение становится совсем уж дерьмовым: с каждым днем все больше случаев воровства, растрат, грабежей, проституции, наркомании, порнографии…
— Жаль, я больше не полицейский. Ты же знаешь, обожаю порнографию…
— Не шути, Конде, речь идет о детской порнографии.
— Это еще цветочки, Маноло. Готовься к тому, что скоро хлынет на нас со всех сторон…
— Вот именно. Ты думаешь, когда вокруг такое творится, у меня есть время вникать в подробности жизни Хемингуэя, который уже тысячу лет как застрелился, чтобы выяснить, убил он или не убивал некоего типа, о котором неизвестно даже, кто он, к дьяволу, такой.
Конде улыбнулся и взглянул на море. Бухта, в прежние времена до отказа забитая рыбачьими суденышками, сейчас была пустынным и сверкающим пространством.
— Хочу сказать тебе кое-что, Маноло… — Он сделал паузу и пригубил свой напиток. — Я был бы очень рад, если бы удалось доказать, что именно Хемингуэй прикончил этого типа. Уже много лет чертов писатель для меня как заноза в заднице. Но в то же время неприятно сознавать, что на него могут навесить мертвеца, к которому он не имеет никакого отношения. Поэтому я займусь этим делом, попытаюсь кое-что выяснить, и когда я говорю «кое-что», это кое-что и есть… Место, где были найдены кости, уже осмотрели как следует?
— Нет, но завтра туда отправятся Креспо и Грек. Такую работу не поручишь простому землекопу.
— А ты чем займешься?
— Своими делами, а через неделю, когда ты мне расскажешь, что разузнал, закрою дело и выкину из головы эту историю. И пусть в дерьме окажется тот, кто этого заслуживает.
Конде вновь перевел взгляд на море. Он знал, что лейтенант Паласиос прав, однако странное беспокойство угнездилось в его душе. Он не мог понять, море ли так разбередило ему совесть или все дело в том, что он слишком долго был полицейским. А может, это из-за того, что я пытаюсь стать писателем? — подумал он, не желая расставаться со своей главной мечтой.
— Пойдем, я хочу тебе кое-что показать, — обратился он к своему приятелю и поднялся из-за стола.
Не дожидаясь Маноло, он перешел через улицу и зашагал между стволами казуарин в сторону маленького сквера, где высилась беседка без крыши, внутри которой располагался бетонный пьедестал с установленным на нем бронзовым бюстом. Косые лучи клонящегося к закату, но все еще жаркого солнца играли на зеленоватом лице увековеченного в бронзе писателя, и казалось, что он улыбается.
— Когда я начинал писать, то старался делать это как он. Этот человек играл для меня очень важную роль, — сказал Конде, пристально вглядываясь в памятник.
Каким бы почетом ни были окружены имя и личность Хемингуэя на Кубе, сколько бы ни посвящалось ему чествований и воспоминаний, все равно только этот бюст казался Конде искренним и подлинным, таким же, как любая из коротких утвердительных фраз, какими Хемингуэй научился писать в бытность начинающим репортером газеты «Канзас-сити стар». В самом деле Конде всегда считал излишним дальнейшее проведение турниров по ловле марлина, некогда придуманных самим писателем, ставших регулярными уже после его смерти и как бы освященных его именем. Во всяком случае к литературе это не имело никакого отношения. Фальшивым и отдающим дурным вкусом — в прямом смысле тоже — казался ему дайкири «Двойной Папа», который он однажды, бесшабашно запустив руку в свой тощий кошелек, заказал за стойкой бара «Флоридита» и получил гнусное пойло вместо напитка, которому Хемингуэй, руководствуясь собственным рецептом, к сожалению, отказывал в спасительной ложечке сахара, способной дать почувствовать разницу между хорошим коктейлем и плохо разбавленным ромом. Его не просто смущало, а оскорбляло создание гламурного «Берега Хемингуэя», чтобы богатые и красивые буржуа со всего света, а не какой-нибудь местный оборванец (в силу того, что он кубинец и пока еще живет на острове) могли наслаждаться яхтами, пляжами, напитками, деликатесами, услужливыми шлюхами и обилием солнца, но только такого солнца, что придает столь красивый оттенок коже, а не того, другого, что прожигает насквозь на тростниковых плантациях. Даже в музее-усадьбе «Вихия», который Конде перестал посещать много лет назад, обстановка напоминала декорации, заранее выстроенные при жизни, чтобы использовать их после смерти… В общем, одна только заброшенная беседка в сквере Кохимара с бронзовым бюстом на разъеденном селитрой постаменте говорила о чем-то простом и настоящем: это был первый в мире посмертный памятник писателю, о чем всегда забывали его биографы, и единственный искренний памятник, потому что его установили на свои деньги бедняки, рыбаки Кохимара, собравшие по всей Гаване нужное количество бронзы, после чего в дело вступил скульптор, не взявший платы за свою работу. Эти рыбаки, которым Хемингуэй в тяжелые времена отдавал свой улов, добытый в благословенных водах, которым он предоставлял работу во время съемок фильма «Старик и море», добиваясь при этом, чтобы им платили по справедливым расценкам; эти люди, которых он угощал пивом и ромом и внимательно слушал их рассказы об огромных и могучих серебристых рыбинах, пойманных в теплых водах Большой голубой реки, — только они чувствовали то, что не мог почувствовать никто в мире: кохимарские рыбаки потеряли своего товарища, того, кем Хемингуэй никогда не был ни для писателей, ни для журналистов, ни для тореро или белых охотников в Африке, ни даже для испанских республиканцев или французских маки, во главе которых он въехал в Париж, чтобы благополучно освободить от нацистов винные погреба отеля «Ритц»… Рядом с этим куском бронзы рассыпалось в прах все фальшивое и показное, что было в жизни Хемингуэя, обнажая правдивую сторону мифа о нем, и Конде восхищался этой данью памяти даже не писателю, которому не суждено было об этом узнать, а людям, способным совершить такое и продемонстрировать подлинность своих чувств, что так редко встречается в нашем мире.
— И знаешь, что самое скверное? — добавил бывший полицейский. — Похоже, этот сукин сын до сих пор сидит у меня вот здесь. — И ткнул пальцем куда-то себе в грудь.
*
Если бы Мисс Мэри не уехала, в тот вечер у них обязательно были бы гости, как это всегда бывало по средам, и ему не удалось бы выпить столько вина. Наверняка приглашенных на ужин было бы немного — в последнее время он предпочитал покой и беседы с одним-двумя друзьями бурным застольям былых лет, особенно с тех пор, как его печень подала сигнал тревоги в связи с чрезмерным количеством алкоголя, выпитого им за долгие годы, и как выпивка, так и еда возглавили ужасный список запретов, который неудержимо и мучительно разрастался. Тем не менее ужины по средам в усадьбе «Вихия» сохранились как ритуал, и из всех знакомых он предпочитал увидеть в этот вечер за своим столом врача Феррера Мачуку, старого друга со времен войны в Испании, и тихую рыжую ирландку Валери, такую волнующую и юную, что он, чтобы не влюбиться в ее невероятно нежную, гладкую кожу, сделал девушку своей личной помощницей, убежденный, что работа и любовь не должны совмещаться.
После неожиданного отъезда его жены в США, чтобы ускорить покупку земельного участка в Кетчуме, он остался один и хотел по крайней мере несколько дней насладиться острым и забытым ощущением одиночества, которое когда-то оказывалось весьма плодотворным, но теперь слишком напоминало о старости. Чтобы побороть это чувство, он вставал каждое утро с солнцем и, как в лучшие времена, крепко и честно работал, стоя перед пишущей машинкой и успевая за день написать больше трехсот слов, хотя с каждым разом правда, которой он хотел добиться в противоречивой истории под названием «Райский сад», казалась ему все более неуловимой. Он никому не признался бы в том, что на самом деле просто-напросто вернулся к своей старой вещи, задуманной десять лет назад как рассказ, но уже сильно разросшейся, поскольку он был вынужден прервать работу над новой редакцией «Смерти после полудня» и не нашел иного способа занять освободившееся время. Вчитываясь в старую хронику, посвященную искусству и философии корриды и нуждавшуюся в серьезной обработке для планируемого нового издания, он обнаружил, что его мозг работает слишком медленно, и не раз, дабы убедиться в правильности своих оценок, ему приходилось делать усилие, чтобы вспомнить что-либо, и даже прибегать к помощи специальной литературы по тавромахии и выискивать там кое-какие существенные подробности о мире, который он, в своей долгой любви к Испании, так хорошо знал.