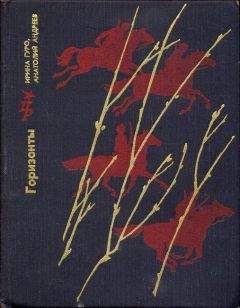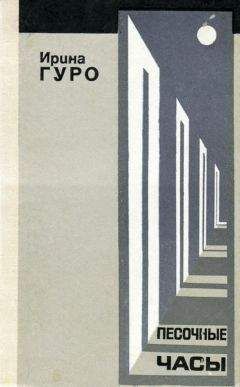Нет, я ни за что не хотела мириться с таким положением!
— Прямым доказательством могло бы быть признание Лямина-сына… — осторожно начала я.
— Нет, — отрезал мой шеф, — признание, ничем не подкрепленное, ничего не стоит в глазах суда. На процессе обвиняемый откажется от своих показаний. Лучше прекратить следствие, чем выходить на суд без улик.
Первый раз я в душе осудила Шумилова. Мы ничего не добились, введя в игру Жанну. Нам решительно не везло. Все было плохо.
Но через месяц Жанне позвонили из Одессы. Лямин- старший предлагал ей выехать в маленький городок Тарынь, где ее встретят на вокзале, узнают по описанию и по условному знаку: у нее должна быть в руках нотная папка.
Тем же поездом выехали и мы с Мотей. Жанну встретила на вокзале пожилая, хорошо одетая дама. Мы проводили взглядом обеих женщин, не спеша прошествовавших в боковую улицу, — кажется, дело сдвинулось с мертвой точки!
Вечером на условленное место Жанна не пришла. Контрольное свидание было у нас назначено на следующий день в маленькой кондитерской на перекрестке двух бойких улиц. Но Жанна не появилась и здесь: старуха ее не выпускала, это было ясно.
В обусловленный заранее день мы выехали на вокзал к поезду и сразу же увидели Жанну с той же дамой. В руках у Жанны был чемоданчик. Старуха несла другой. Это нас обнадежило.
Усаживая Жанну в купе, дама передала ей и свой чемодан. Не дождавшись отхода поезда, дама махнула рукой стоявшей у окна Жанне и была такова…
Поезд тронулся. Мы встретились в вагоне-ресторане, в котором кормили пшенным супом с воблой и пшенной же кашей с маслом, напоминавшим машинное.
— Ничего похожего на стол мадам Горской, — сказала Жанна.
Мы не очень внимательно слушали ее рассказ о богатом доме Серафимы Ивановны Горской и о ее дочерях, уверенных, что их мать занимается торговлей фруктами. Нам не терпелось узнать, что происходило в самом «логове»… Нет, никакое это не логово! И ничего там не происходило. У Серафимы Ивановны был приготовлен для Жанны чемодан. «Очередная партия товара», — сказала мадам Горская.
А деньги? Фальшивые деньги были тут как тут. В чемодане, в пакетах из плотной бумаги, прошитой суровыми нитками.
Странная командировка выпала нам с Мотей: мы съездили за «партией» вопросительных знаков, если пользоваться словарем мадам Горской. С кем связана Горская? Этого уголовный розыск на месте установить не смог.
Шумилов велел мне выписать из камеры вещественных доказательств все партии фальшивых червонцев.
Взяв образцы из всех трех, Шумилов принялся изучать их под сильной лупой. Потом он подозвал меня:
— Видите?
Да, я видела абсолютно схожие бумажные деньги, отличающиеся от настоящих чем-то неуловимым в исполнении водяных знаков.
— Не то, — остановил меня Шумилов, — они все имеют один и тот же дефект.
— Какой?
— Присмотритесь: обрыв хвостика в букве «е» и пятнышко над буквой «о».
Да, действительно, это было.
— Ну и что?
— А то, — с торжеством заявил мой начальник, — что они все сделаны в одном месте!
— Допустим. Но мы все равно не знаем, в каком.
— Легче найти одно место, чем два или несколько!
Нет, я решительно осуждала Шумилова. Все это было каким-то крохоборством, какой-то бесплодной игрой ума.
— Но почему вы решили, что именно в Тарыни делают фальшивые деньги? А не в Одессе, скажем?
— В Одессе фальшивые деньги появились в обращении, а в Тарыни — нет.
«Убийственная логика!» — про себя заметила я и сказала, потеряв терпение:
— С таким же успехом можно предположить наличие шайки фальшивомонетчиков в любом городе, где не появляются фальшивые деньги.
Шумилов не обиделся, а серьезно ответил:
— В ваших рассуждениях есть логический провал: Тарынь имеет нечто, заставляющее искать именно тут.
— Что же именно?
— Мадам Горскую с пакетами из плотной бумаги.
Шумилов вытащил из ящика стола один из знакомых уже мне пакетов и подал мне лупу.
— Что вы видите? — спросил он с торжеством.
— Какую-то стертую, еле заметную надпись: «12 гроссов».
— Вы когда-нибудь слышали, чтобы деньги считали на гроссы?
— Н-нет…
— Значит?
— Значит, использовались пакеты от чего-то другого…
— Что считается на гроссы! Браво! Пишите письмо в милицию в Тарынь. Пусть немедленно сообщат, какие фабрики у них имеются. Может быть, карандашная?
Вскоре мы получили ответ. В Тарыни имелась только одна фабрика: пуговичная. Она принадлежала молодому, энергичному дельцу Барскому. Рабочих на фабрике было немного, и все они близкие или дальние родственники хозяина. Его жена ведала учетом готовой продукции, а парализованный тесть, старик, коротал вечера, подсчитывая прибыли и убытки. Таким образом, дела фирмы не выходили из семейного круга.
Что же, на фабрике вовсе не было посторонних людей? Были. Три пожарника. На пост пожарника не могли быть устроены родственники хозяина фабрики, потому что пожарники набирались районной пожарной охраной.
Три пожарника бездельничали при фабрике и целыми днями лузгали семечки на крыльце. Ночами они спали беспробудным сном в сарае под неисправным огнетушителем.
Шумилов прочитал с видимым удовольствием донесение обо всем этом и отправился в уголовный розыск.
Через день один из трех пожарников пуговичной фабрики «заболел». На его место тотчас явился новый, молодой паренек с туповатым видом. Такой вид умел напускать на себя Мотя Бойко.
В тот вечер Иона Петрович был необычно оживлен. Вспоминал свои студенческие годы, смешил меня рассказами о том, как полицейские пытались «переквалифицироваться» в «советских сыщиков». Потом Иона Петрович сказал:
— Дайте сегодняшнюю почту.
Я положила перед ним только что полученную корреспонденцию, и Шумилов извлек из нее увесистый пакет со штемпелем Тарыни.
Он с жадностью читал каракули Моти Бойко, щедро усеявшие три стандартных бумажных листа с обеих сторон. Я ждала смеха. Без смеха читать Мотины донесения было невозможно.
Шумилов дочитал, но не засмеялся.
Мотя Бойко сообщал:
«Доношу, що интересный ваш товар низвиткиля не привозиться, а заготовляется на месте заодно с пуговицами. Пуговицы штампуют вверху, а в подвале происходит интересующий вас процесс. Про то известно всем на фабрике, только не пожарным. Пожарные нос в это дело не суют, а спят круглосуточно в сарае. Своими глазами видел, как интересный вам товар складали в стопки, пихали в коробки с под пуговиц и опечатывали сургучом, все ровно как секретную почту…»
Дальше давались колоритные характеристики людей, причастных к «интересному производству».
«Они все скрозь тут родичи: братья да сватья. Егоровых одних — пять штук: папаша и четыре сына.
Папа — тертый калач, разменял десятку в лагерях; старший сын, по прозванию Дима Цаца, подорвал когти с киевской тюрьмы. А младший, Сеня Звонок, так тот имеет другую специальность: поездной мойщик — чемоданы тырит. А который сторож в будке — так то ихний дедушка, стародавний фармазон. А голова всему делу — парализованный старик Барский, сиднем сидит в кресле и только командует. Имя — неизвестно. Зовут Шеф. Видел его раз, как принимали меня на работу, с виду — старый дед, вывеска потрепанная, только глазищами водит. Руками-ногами не шевелить. А в кресле возит его здоровая тетка, вроде прислуги, зовут Лизавета Ивановна. Живут во флигеле при фабрике. В доме богато: полно посуды, как при старом режиме…»
Операция была назначена на следующий день после нашего приезда в Тарынь. Мотя Бойко нарисовал план усадьбы фабрики, и Шумилов с начальником уголовного розыска наметили расстановку людей. Это были оперативные сотрудники, не раз участвовавшие в боевых операциях и готовые ко всему.
Предполагалось, что фальшивомонетчики будут отстреливаться.
Операцию приурочили к тому моменту, когда вся банда спустится в подвал, то есть мы должны были их поймать с поличным.
Глубокой ночью усадьба пуговичной фабрики была окружена двумя десятками вооруженных людей. Мы ждали сигнала, чтобы подняться по лестнице на второй этаж флигеля. Дежуривший в эту ночь на фабрике Мотя просигналил вспышкой электрического фонарика в окне.
Мы постучали в дверь квартиры на втором этаже. Молчание. Постучали громче. Женский встревоженный голос спросил:
— Кто там?
— Это я, Лизавета Ивановна, пожарник, — ответил Мотя. — Мне к Шефу. Дело серьезное.
— Чего ночью в дом ломишься? Не пожар же! — проворчала женщина.
— Еще хуже пожара, Лизавета Ивановна! — прошептал Мотя в замочную скважину.
Загремели крюки, и дверь приоткрылась. Мы ворвались в квартиру. Остолбеневшая Лизавета прижалась к стене, и Мотя тотчас втолкнул ее в кухню и запер там.