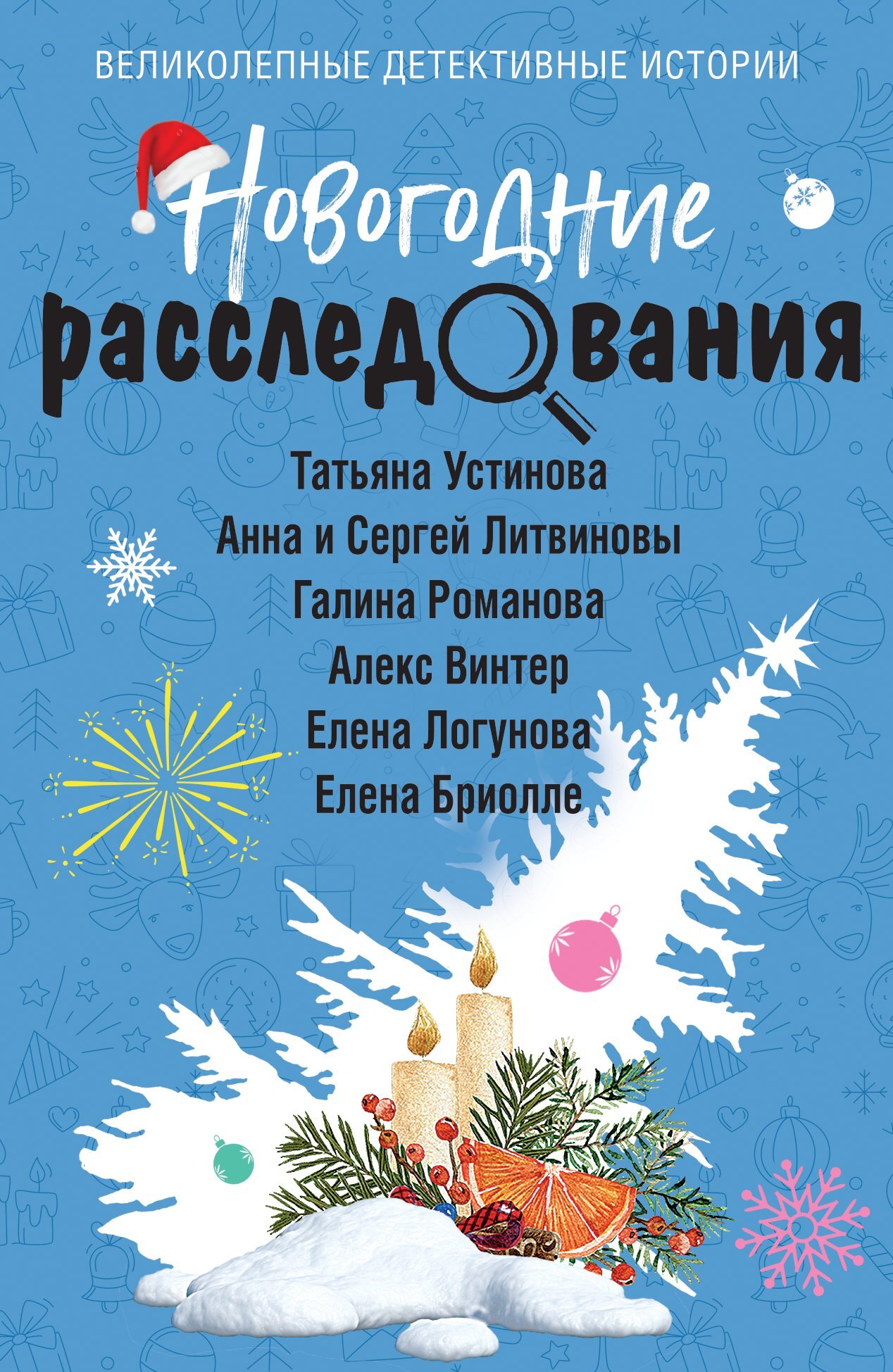подбородком. Нежно! Придумает же! Господи, это раньше ему казалось, что нежно. Теперь-то он это телячье подергивание видеть не мог. И голос ее тихий шелестящий в мозг впивался комариным жужжанием. Коса ее, хлобыстающая ее по пояснице, раздражала. Так бы и навертел ее на руку, так бы и…
Но как она поливала свои нелепые бегонии в нелепых цветастых глиняных горшках, он ненавидел особенно. Над каждым горшком щебечет, дура малахольная! Листочки перебирает, землицу рыхлит специальной крохотной лопаточкой, улыбается. Потом одной рукой листья приподнимает и осторожно с лейки прыскает прямо под корень. И лицо у нее при этом такое становится…
Такое препротивное, слащавое такое лицо с вытянутыми трубочкой губами, будто носик лейки она в этот момент имитировала. И ему хотелось орать в полный голос и колотить ее по толстой спине своими громадными кулачищами.
Но он не бил ее. Не потому не бил, что не хотелось – хотелось, и еще как, – а потому, что противно было ее касаться. Да и боялся ее он тронуть, чего уж вилять. Свободой своей долгожданной дорожил, потому и терпел и щебет ее, и плавное покачивание ее крутых бедер, и цветочки по подоконникам ненавистные терпел.
Выхода у него не было потому что! В угол он был загнан и обстоятельствами, и волею этой белокожей матроны, возомнившей себя его спасительницей.
Выбраться из этого угла хотелось до судорог и уже давно, но он не знал, как. Нет, выход-то был. И друзья опять же советовали, и даже планы какие-то составлялись ими же – он принципиально не принимал участия, – но все казалось ему таким нелепым, таким опасным, что он лишь отрицательно покачивал головой.
– Так нельзя. Это очень сильно бросается в глаза. Меня просто посадят, – хмыкал он, комкая бумажки, излинованные схемами. – Да и о чем это вы? Меня будто бы все устраивает…
Конечно, его ничто не устраивало. Ни в ней ничего ровным счетом не устраивало, ни само ее присутствие в его жизни, но он терпел. Пока терпел. Как-то угнездилась в душе уверенность, что так долго продолжаться не может, что рано или поздно случай ему все же представится, и он терпел.
И вот сегодня утром…
Будто кто под руку его подтолкнул сегодняшним утром, хотя и не рисовалось ничего такого друзьями-комбинаторами и самому не думалось о таком никогда. А потом вдруг будто прозрение!
ОН же знал! ОН верил, что так будет! Просто не знал – когда. А оказалось, что прямо сегодня!..
Глава 3
Весь остаток дня и половину следующего Миньков, засучив рукава рубахи и подвернув джинсы до колен, как заправская баба, елозил тряпкой по полам, подоконникам, окнам, дверям. Замучился воду греть, столько грязи скопилось. Хорошо еще, что дров от прежней деревенской жизни на заднем дворе осталось много, не разворовал никто. Видимо, и впрямь места были заповедными, что все нетронутым оказалось. Чуть ближе бы к городским владениям, уже и от домов бы ничего не осталось. Раскатали бы по бревнышку, растащили по кирпичику.
На койку постелил сначала тонкое тканевое одеяло, обнаруженное в бабкином сундуке, потом надувной матрас, а потом уже сверху спальным мешком все накрыл. Ложе получилось что надо. И мягко, и тепло. Окна занавесил цветастой клеенкой, он ее четыре упаковки купил. На стол тоже постелил. Ничего получилось – нарядно. Посуду расставил. Выпивки целую батарею в сенцы выставил, чтобы не грелась. Там же все мясное, сыры и закуски оставил, подвесив ближе к потолку, чтобы мыши не зарились. А вот фрукты и замороженного гуся в дом занес. Гуся надо было сначала разморозить, потом замариновать, а потом уже и в духовку отправлять. Должен же был у него быть гусь с яблоками, черт побери, или нет на новогоднем столе?!
Как он станет готовить этого гуся, Миньков пока представления не имел. Не готовил никогда в своей жизни даже яичницы. С шашлыками у мангала тоже не топтался. Бутерброд слепить иногда лень бывало, а вот гуся вдруг вздумал запечь. Блажь какая, да?
И к обеду тридцать первого декабря птица уже покоилась на противне, вымазанная соевым соусом, майонезом и чем-то еще пахучим из низенькой красивой баночки с длинным китайским названием. Сейчас вот он сходит за елкой на опушку леса, до которого и было-то метров сто от бабкиного дома, а потом уже гуся в печь засунет. Как раз к двенадцати ночи будет готов.
Бой часов придется слушать в записи. Он заранее диск празднования прошлого Нового года в ноутбук зарядил. И по времени все рассчитал. Включит как раз в двадцать три ноль-ноль, ровно час будет смотреть на то, как они с Алкой отмечали праздник за границей. Будет пить водку, смотреть, тосковать и ругать бессовестную суку, не пожелавшую сделать его счастливым.
Почему каждый раз он-то должен был это делать, почему? Ее-то когда очередь должна была наступить? Никогда, получается? И он вот теперь один. И это в такой-то праздник!
Миньков с сожалением оглядел огромный круглый стол, за которым, бывало, сидело по десять-пятнадцать человек. Жаль, конечно, что праздновать придется одному, но от общения с соседями, с которыми пытался познакомиться вчера днем, как приехал, Сергей отказался.
В первом доме дверь открыли сразу же. И на пороге, как двое из ларца, выросли два совершенно одинаковых старикана. Они даже одеты были в одинаковые байковые клетчатые рубашки, вязанные из овечьей шерсти безрукавки грязно-серого цвета, толстые штаны с начесом, огромные валенки и черные шерстяные шапки. И мутные от домашнего самогона глазенки смотрели одинаково остро и въедливо.
– Чего надо? – в одно слово спросили они у Минькова.
– Да нет, ничего. Знакомых ищу. – Он попятился от такой откровенной неприветливости. – Не был здесь давно.
– Вот те и не надо! – вякнул один из стариков, а второй поддакнул: – Не надо здесь быть тебе, парень.
Дверь захлопнулась, и Миньков пошел прочь с запущенного двора, усеянного древесной щепой, золой, картофельной шелухой и веревочными обрывками.
До второго обитаемого жилища ему пришлось топать через всю деревню. И он немного воспрянул духом, увидев на окнах ажурные занавески, цветы на подоконниках, а на ухоженном, расчищенном от снега дворе аккуратные вязанки дров и холеного сытого кота. Здесь-то должны были жить нормальные люди?
Должны были, но не жили.
Здесь его тоже не пустили на порог. Дверь открыл здоровенный мужик в телогрейке на голое тело. Крупная голова была наголо брита, через весь торс крупной вязью плелась широкая лента татуировок, сильные длинные пальцы, сжимающие сигарету, тоже были все сплошь в узорах.
– Ну! – мужик понимающе хмыкнул, проследив за его взглядом. – Все рассмотрел?
– Нет… Не очень… – промямлил Миньков, немного смутившись. – Я, собственно, не за этим.
– А за каким? – Длинная, как плеть, рука с крепко сжатым