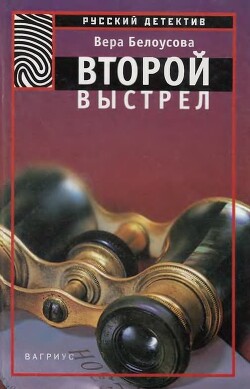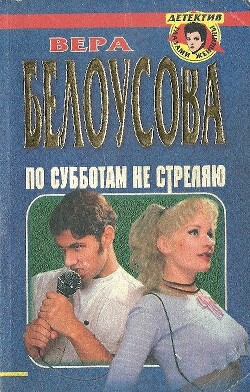В кабинете все вроде бы лежало на своих местах, в спальне тоже. Я вдруг как-то запоздало озверел, снова выскочил в коридор, потоптался на месте, но потом все-таки плюнул и вернулся к себе.
Тем более что гораздо больше меня занимал другой вопрос. Нечего было и надеяться уснуть, не разрешив этого вопроса. Дело в том, что… Я не поверил матери. Нет, пожалуй, «не поверил» — это не совсем то. Вообще-то все вполне могло быть так, как она говорила. Я допускал, что эти банковские дела могут довести человека до состояния невменяемости. Мало ли что там могло произойти! И в ящике вполне могли лежать, к примеру, бумаги, связанные с этими самыми «неприятностями». В том, что она явно стремилась скрыть от меня содержимое этого ящика, тоже, если вдуматься, не было ничего удивительного — просто не хотела впутывать меня в свои дела. Она вообще всегда старалась держать меня в стороне от своей банкирской жизни, видимо, рассчитывая, что мы с Петькой будем только стричь купоны, занимаясь при этом своими делами. Словом, всему можно было найти разумное объяснение, и выглядело все вполне правдоподобно. И все-таки, все-таки… Лицо у нее было такое, словно она обнаружила в ящике не бумаги, а змею. И это ее лицо, и «средняя женщина», и все прочее… Да что говорить! Проворочавшись без сна часов до пяти, я понял, что деваться некуда — утром нужно идти к ней и требовать, чтобы она открыла ящик на моих глазах. Каким образом я этого добьюсь, оставалось для меня самого полной загадкой. Собственно говоря, об этом я вообще не думал, старался не думать — из чувства самосохранения, поскольку прекрасно понимал, что лишние раздумья только ослабят волю к действию. Достаточно было представить себе возможную реакцию матери на мой ультиматум… Нет, гораздо лучше было об этом не думать.
Еще меня немного беспокоила мысль о том, что за это время содержимое ящика десять раз можно было перепрятать. Но я рассчитывал как раз на то, что это ей в голову не придет, причем не придет именно потому, что она не догадается о моих агрессивных намерениях.
Сна, казалось, не было ни в одном глазу, однако, перебрав все это в уме и окончательно решив утром во что бы то ни стало все выяснить, я совершенно неожиданно заснул как убитый.
Когда я проснулся, часы показывали четверть десятого. Откуда, спрашивается, берется такой сон праведника, когда нервы напряжены до предела? Организм, что ли, не выдерживает и отключается? Я проснулся от того, что кто-то рявкнул мне в самое ухо: «Уже поздно!» — и вскочил как ошпаренный. В комнате никого не было, так что это «уже поздно!» тоже проходило по разряду сюрпризов организма. Я натянул брюки, раз пять, по меньшей мере, попав ногой не в ту штанину, сунул ноги в тапки и решительно двинулся на половину матери, пытаясь на ходу стряхнуть сонную одурь и отмести мысль о том, что сейчас заработаю очередного «Гамлета».
Ничего не вышло. Пока я спал, она успела уйти. Задача усложнялась. Или… Или наоборот — упрощалась. Во всяком случае, сводилась к чисто практическому вопросу. Моральная проблема, конечно, имела место — как-никак мне предстояло покуситься на чужую собственность… Совершить грабеж со взломом. Не шуточки… Но меня в тот момент куда больше интересовала практическая сторона. Иными словами: не «имею ли я право?», а «как?». И… чем? Проволокой? Ножом? Для начала я постарался как можно точнее воспроизвести в памяти ее позу и понять, насколько сильно она наклонялась — чтобы определить нужный ящик и не ломать лишнего. Получилось — четвертый снизу. Сперва я его для порядку подергал — просто так, ни на что, разумеется, не рассчитывая. Потом поковырял в замочной скважине своими ключами. Безрезультатно. Теперь на очереди была проволока. Я раздобыл ее у Петьки, порывшись в его старых конструкторах — отличную, прочную проволоку, и долго и старательно вертел ее в замочной скважине. Без толку. Потом в ход пошли разные лезвия перочинного ножика — с тем же результатом. Пора было переходить к решительным действиям. Если нельзя взломать замок, значит надо взломать сам ящик. Я тяжело вздохнул и сменил перочинный нож на большой кухонный. На вид это бюро казалось изящным и даже хрупким, но впечатление было обманчиво. Ящик не поддавался. Пришлось отправиться на поиски стамески. В голове у меня вертелась идиотская фраза: «Если ящик не поддается, его ломают», причем я никак не мог вспомнить, где и когда слышал что-то подобное. Ничего более содержательного в голове не было. На какую-то секунду мелькнула мысль о том, что будет, если неожиданно вернется мать, но и эта мысль тотчас же улетучилась. Ничего меня не волновало, кроме этого ящика.
Коробка с инструментами стояла на верхней полке в так называемой «темной комнате» — одной из кладовок. Я порылся в ней, нашел стамеску и снова пошел на приступ. На этот раз я действовал очень решительно. На полированном красном дереве появились грубые, свежие царапины. Запахло древесиной. На какую-то долю секунды это меня смутило. Не стану описывать своих ассоциаций — по-моему, и так все ясно. Вы думаете, это заставило меня остановиться? Ничуть не бывало! Напротив, я впал в какое-то зверское состояние и, стиснув зубы, ворочал стамеской изо всех сил. В конце концов передняя стенка ящика отлетела. Я сел на корточки и заглянул в обнажившееся моими стараниями нутро. Там лежал револьвер.
ГЛАВА 18
Не надо было его трогать. Надо было немедленно позвонить Мышкину. Но я ничего этого не сделал. Я помчался к телефону, схватил трубку и тут же отшвырнул ее, как будто это была не трубка, а оголенный провод. Бросился обратно в кабинет и какое-то время тупо и бессмысленно пытался приладить переднюю стенку на прежнее место. Потом я схватил револьвер — не для того, чтобы изучить, я понятия не имел, чего там изучать — а чтобы немедленно перепрятать. Нельзя же было оставить его лежать прямо так, «в открытом доступе», чтобы мог увидеть всякий желающий. И я его перепрятал — сунул к себе под подушку. Такое решение мне самому показалось сомнительным, но размышлять было некогда. Почему-то я ужасно торопился. «Куда теперь?» — спросил я сам себя, отделавшись от револьвера, и сам себе же ответил: «Ясное дело, в библиотеку!» Похоже на Иванушку Бездомного? По-моему, один к одному. И степень вменяемости у меня была, видимо, примерно та же. Хотя… насчет вменяемости — это еще вопрос… Внешне все это выглядело как чистое безумие, но я не исключаю, что на самом деле тут включился автопилот, управлявший моими поступками не без внутренней логики, только логики очень специфической, не сразу видной невооруженным глазом. Помню, что в голове у меня время от времени мелькала мысль, приносившая мне некоторое утешение: «Она испугалась…» — но додумать ее до конца я никак не мог.
Через пять минут, уже побывав в библиотеке, я обнаружил себя сидящим на собственной кровати. Правая рука тщательно прижимала подушку к матрасу, в левой был зеленый томик Тургенева с «Первой любовью» и прочими повестями.
В который раз я ее перечитывал? Не знаю… В сотый? В тысячный? Ей-богу, я знал ее наизусть. Но только тут, только в этот раз, мне вдруг показалось, что я понимаю… Может быть, события последних суток обострили мое восприятие, не знаю… «Лишние», — говорила Сонька и за ней — Ольга, «подсократить лишних»… А кто там лишний? Отец героя, счастливый любовник, он же — мой отец? Разумеется, нет. Зинаида, она же — Ольга? Нет, конечно. Мой тезка, влюбленный в Зинаиду, он же сын счастливого любовника, он же главный герой — иными словами, я? Ну да, там, у них, он — третий лишний. Но ведь не о том же речь! Он, то есть я — тьфу, не знаю, как сказать… в общем, он есть в этой повести. Описан. Есть соответствие. Всем в этом треугольнике и вокруг него есть соответствие, даже Леле. А вот кому нет — так это Соньке. Нет в «Первой любви» такого персонажа. И места для него нет, и роли нет. Лишний персонаж. А значит…
Я положил «Первую любовь» на колени и той же рукой потянулся к лежавшей на тумбочке газете. И схватил… воздух. То есть поскреб пальцами по полировке. Я внимательно осмотрел все вокруг, все еще надеясь, что она просто упала и лежит где-нибудь поблизости на полу. Газеты не было. Не было газеты. Исчезла.