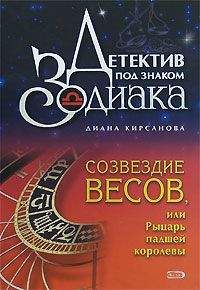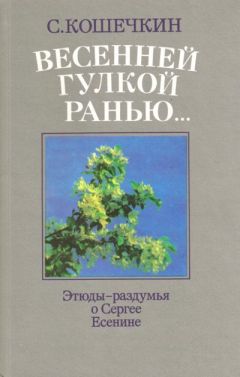Ознакомительная версия.
Соломон Фридман проживал совсем рядом – совпадения, которые случаются только в кино и детективных романах. Буквально через дорогу от их Историко-архивного института стояло несколько полуслепых стареньких домиков, из тех, что еще сохраняли аромат старинных московских особнячков.
Престарелая женщина, опираясь на инвалидную трость, встретила молодых людей на пороге однокомнатной квартирки и ничуть не усомнилась в их полномочиях – Валька и Арька сказали, что являются работниками собеса, которые пришли узнать, не нуждается ли в чем семья Фридман после смерти ее кормильца.
Примечательно, что Двойра Абрамовна (так представилась старушка) с первой же минуты стала говорить с ними о сыне.
Тяжело дыша и с трудом переступая отекшими ногами в вязаных чулках, она провела молодых людей в комнату, села в продавленное кресло у окна (как видно, в нем она проводила большую часть своего времени) и сразу начала плакать.
– Господи, Моня! Горе-то какое, господи! Кто ж это сделал, да как же он решился поднять руку на моего мальчика, ведь он меня осиротил, сволочь он…
– У вас больше нет детей, родственников?
– Никого. Только Монечка! Я из квартиры не выхожу совсем, одышкой мучаюсь, так соседки вечерком забегают, расскажут, как тут да что… Ужас какой, Монечка ты мой бедный…
– А вы… никого не подозреваете?
– Что вы, разве могу я… Для этого ведь знать надо, как жил он, с кем виделся… А что я знаю? Что сама вижу? Сижу вот здесь да в окно целый день смотрю. Раньше, там, в Израиле, только и ждала, когда Моня или Эля придут, в магазин сбегают, приберутся… А тут… И зачем мы вернулись, зачем вернулись? Да не в приборке ж дело… А в том, что одиноко мне. Москва эта… сырой, холодный город. Днем Моня на работе – поговорить не с кем. Телевизор смотреть, книжки какие полистать я не могу. Глаза сразу слабеют. Вот и ждала Моню, он хоть и забегал всего на часок-другой, а все мне веселей было. Ох, да что ж это… Да кто ж его…
Положив обе руки на ручку трости, Двойра Абрамовна вполголоса причитала и мерно покачивала седой, аккуратно причесанной головой. Слезы из выцветших серых глаз лились непрестанно. Байковый халат на груди был уже совсем мокрый.
– Двойра Абрамовна, вы не переживайте, вам нельзя так расстраиваться, наверно. Все у вас еще наладится, наверное, – пробормотала Арька.
– Молода ты еще, – ответила женщина с каким-то упреком. – Не понимаешь. Ничего у меня не наладится. Только смерти теперь и ждать.
– Ну, зачем же вы так…
– Двойра Абрамовна, – вмешался Валька. – А кто такая Эля? Ну вот та, о которой вы только что упомянули?
– Элечка? Так жена Монина, моя, значит, невестка.
– Как, у Соломона Фридмана была жена?
– Была. Как и положено. Они еще в Израиле поженились. Лет двадцать назад, как…
– В Израиле?!
– Расскажите, Двойра Абрамовна, – попросил Валька, встретив настороженный взгляд старушки. – Не хочу вас обманывать, но… может быть, ваш рассказ поможет установить, кто виновен в гибели Мони. Знаете, бывает, самая незначительная деталь…
– Так вы не из собеса?
– Мы из собеса, но я еще и студент, учусь на юридическом, так что, знаете ли…
Замечательно, что госпожа Фридман не стала долго спорить. Видимо, Валька ей сразу понравился – она смотрела в основном на него, воспринимая Арину как какое-то приложение к красивому молодому человеку.
Было обидно, но терпимо. Лишь бы на пользу дела!
– Вы не еврей, молодой человек? – спросила Двойра Абрамовна, опуская подбородок на сложенные на трости руки.
– Нет, – растерялся Валька. – И она тоже… Извините.
– Жаль. Жаль, потому что вы внушаете мне доверие. Ну что ж… Пусть вы не еврей, я все равно расскажу вам… тем более что никакого секрета в этом нет…
* * *
В этом действительно не было никакого секрета, но сведения, которые изложила им Двойра Абрамовна, были все-таки неожиданными. Оказывается, семья Фридман эмигрировала из России еще в конце 90-х. Вместе с Соломоном и его мамой в Израиль уехала их дальняя родственница, во внешности которой не было ничего семитского: мягкие каштановые волосы, серые глаза, тонкая, но легкая, как будто летящая куда-то фигурка.
Красивая, умная и обладающая легким, уживчивым характером, Эля могла бы прекрасно устроить свою судьбу за границей – девушке с такой внешностью, да еще знающей три языка, было не так уж сложно выбрать наиболее перспективного поклонника. Тем более что Европа, а вместе с ней и Израиль в те годы переживали очередной виток моды на русских жен. Но юная эмигрантка остановила свой выбор на том, с кем долгие годы росла вместе и с кем они рука об руку покинули родные берега, – на длинном, сутуловатом, длинноносом Соломоне, товарище ее детских игр, давно и преданно в нее влюбленном.
Через два месяца после того как семья Фридман переехала в Израиль и обосновалась в небольшом городке Зихрон-Яаков, центре израильского виноделия, окруженном живописными виноградниками на склонах холмов, Соломон Фридман и Эля поженились.
Улыбка Фортуны не переросла в усмешку: русские эмигранты на земле обетованной прожили счастливую жизнь. Соседи, жившие в таких же, как и у них, маленьких аккуратных домиках с типичными для городка лужайками и подстриженными газонами, ни разу не были свидетелями ссор и скандалов четы Фридман.
Соломон по утрам целовал жену у калитки, садился в малолитражный «Бьюик» и уезжал в расположенную неподалеку клинику приводить в порядок зубы соотечественников. А Эля в резиновых перчатках по локоть и с садовыми ножницами наперевес целыми днями выравнивала, рассаживала, подстригала зеленые насаждения вокруг своего семейного гнезда. Несколько раз в году они выбирались отпраздновать какие-то свои события в лучший городской ресторан, летом паковали чемоданы и уезжали отдыхать на Мертвое море – вот, пожалуй, и все, что знали о них соседи и что могла рассказать сама Двойра Абрамовна, с умилением наблюдавшая за счастьем сына.
Так прошло двадцать с лишним лет. Годы почти незаметно сдули волосы с головы постаревшего и располневшего Соломона, иссушили кожу и обволокли жирком некогда стройную фигуру Эли… И однажды утром вездесущая мадам Шлитке, давно потерявшая было интерес к своим спокойным соседям, вдруг не увидела машины Фридманов у калитки. Вместо нее там стояло авто известного в округе доктора из другой, не стоматологической, клиники, расположенной по соседству.
Через полчаса на крыльце дома показался и сам доктор – он мягко отнимал у Соломона свою шляпу, а сосед мадам Шлитке с посеревшим лицом все пытался что-то выспросить у эскулапа, вцепившись одной рукой в его шляпу, а другой – в полу щегольского коричневого пальто. В конце концов доктор вырвал у хозяина свой головной убор и, твердо выговорив Фридману несколько слов, сбежал со ступенек.
Через полчаса все та же мадам Шлитке могла наблюдать, как у дома показалась другая машина, на этот раз с красным крестом на боку; ее прибытия Фридманы уже ожидали. Соломон, суетясь и мешаясь под ногами у санитаров, подсадил в автомобиль жену – мадам Шлитке впервые видела Элю настолько неопрятно одетой, в незастегнутом пеньюаре, шлепанцах на босу ногу и с не заколотыми волосами, – сам сел рядом, санитары захлопнули дверцы, и Фридманы уехали в больницу, из которой полтора месяца спустя домой вернулся один только Соломон.
– Эля умерла от рака желудка, – сказала нам Двойра Абрамовна, и видно было, что эти воспоминания причиняют ей настоящую боль. – Болезнь открылась внезапно, как стало потом известно, Эля периодически чувствовала какую-то резь, неудобство, но думала, что это просто спазмы, и не жаловалась, и ни к кому не обращалась. А потом – потом было уже поздно…
Полтора месяца наблюдений за мучениями жены (перед смертью она весила всего тридцать семь килограммов) сделали Соломона Фридмана совершенной развалиной. Мадам Шлитке, вновь воспылавшая страстью ко всему происходящему за соседним забором, не успевала дивиться в свой бинокль, как некогда бодрый сосед, возвращаясь в опустевший дом, подволакивает ногу и то и дело останавливается, бессмысленно уставясь пустым взглядом впереди себя. Он перестал ездить на работу, перестал следить за собой, перестал заказывать продукты на дом и настолько редко показывался за пределами своего дома, что в иные дни мадам Шлитке, закатывая глаза, трагическим шепотом вносила соседям предложения о вызове специальной похоронной бригады.
Но однажды дремавшая у своего окна матрона была разбужена резким стуком соседской калитки: Соломон спешно покидал свой дом – настолько спешно, что второпях сунул руку только в один рукав старого плаща. Другая половина волочилась за ним по траве, затем по гальке и пыли – он не замечал этого, в лихорадочной спешке устремляясь вдоль улицы в сторону почты и прижимая к груди распечатанный конверт, из которого, как заметила вновь вцепившаяся в окуляры бинокля мадам Шлитке, торчали исписанные листы и несколько цветных фотографий.
Ознакомительная версия.