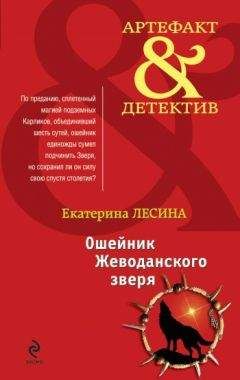В тот момент я не думал ни о чем, я просто спешился, решив отдохнуть и перекусить, я положил мушкет на камни и сел сам, подставляя лицо свежему ветру и зябкому пока весеннему солнцу. Пожалуй, мне было хорошо, пожалуй, впервые за очень долгое время из головы моей исчезли мысли об отце, Антуане, графе Моранжа и Звере. Я просто наслаждался редкой минутой покоя и внезапного почти счастья.
Голоса донеслись снизу. Негромкие, но бережно сохраненные и усиленные эхом, они поднялись со дна расщелины.
– Мы должны действовать... ждать дальше... явить...
К сожалению, эхо же разорвало фразы на клочки, составить единое целое из которых я не мог, но я узнал голос. Говорил отец, а отвечал де Моранжа:
– Не спеши... остался один... Ботерн... мешал... убрать из Лангедока...
Я лег на живот и подполз к краю пропасти, желая разглядеть говоривших и услышать подробности беседы.
– Антуан... не сломать... крайняя осторожность... Слишком строг... – наставлял невидимый де Моранжа.
Ближе. Надо еще ближе. Но как? Неосторожное движение подтолкнуло вниз камни, полетевшие дождем, шумным и явно выдающим мое присутствие. Я же вскочил, метнулся к лошади, подгоняемый непонятным страхом, взлетел в седло и галопом унесся прочь по тропе.
Почему я так опасался быть застигнутым? Не знаю. Ведь я мог бы спуститься, заговорить, рассеять подозрения их и свои, но вместо этого весь день, до самых сумерек, бродил по лесу. Однако на сей раз уловка не спасла. – Где ты был? – строго спросил отец, осматривая меня придирчивым взглядом. – Где ты шлялся?
– Просто... охотился.
– Ложь, – припечатал он словом. – Ты лжешь, хотя знаешь, что ложь – великий грех! Ты следил за Антуаном? За мной? Отвечай! И помни, что ложью произнесенной ты убиваешь душу свою!
Если бы он не упомянул о грехе и душе, я бы смолчал, я бы сумел придумать ответ, успокоивший отца, но вместо этого разозлился, как никогда прежде не злился.
– Ты о моей душе заботишься? А что тогда с твоей? Что происходит, отец?
– Ничего, что бы тебя касалось.
– Неужели? Меня не коснулась тюрьма, в которую нас упрятали по прихоти де Ботерна. И для того, чтобы дать ему повод убраться из Лангедока? – Я сочинял на ходу, сам не веря в свои домыслы, я склеивал обрывки подслушанной беседы со своей злостью и выплескивал сотворенное на отца. – И кого вы собираетесь явить? Для чего? Зверя?
Он меня ударил, не ладонью – кулаком, ломая нос и запечатывая дерзкие губы. А потом, вырвав поводья, вскочил в седло и унесся в темноту, столь велика была его ярость.
Я же, пытаясь остановить кровь, остывал и думал о том, какое страшное обвинение бросил в лицо отцу. Да, пусть он жесткий и порой жестокий, пусть он никогда не испытывал любви ко мне, если вообще был способен на любовь, но меж тем он мой отец.
А я сказал ему, что он – чудовище.
Той ночью я не сомкнул глаз, надеясь дождаться его и просить прощения. Я искренне собирался рассказать обо всем, излить и вопросы, и догадки, и сомнения. Я верил, что он сумеет ответить, развеет страх и пусть не простит, но избавит от дальнейших мук.
Я ошибался.
Отец отсутствовал два дня, а на третий появился слуга с запиской, в каковой мне приказывалось немедля выдвигаться в Бессе.
– Зачем? – спросил я у грязного человека в овчинном тулупе, привезшего послание.
Он, хмуро глянув, буркнул:
– Облава. Зверя травить станут. Да впустую...
Облава и на самом деле была пустая, как и все, которые устраивались до того. Сыпал мелкий весенний дождь, вытапливая остатки снега и развозя дороги грязью. Черные болотные ямы смотрели сквозь редкую зелень, уже покрывшую долины, белые и рыжие скалы возлежали на перинах-полях, подобные великанам, и крохотные люди тщетно пытались объять необъятное.
Скулили собаки, вытащенные на холод и ветер, кутались в плащи борзятники, вяло трусили доезжачие, путались в сетях тенетчики, матерясь на прихоть графа, какому вздумалось устраивать охоту в неохотнее время. Сам де Моранжа сидел в портшезе. В высоком парике его, на сей раз смоляного окрасу, каплями дождя поблескивали алмазные заколки, но настоящей воде не суждено было коснуться укрытого под огромным зонтом графа.
– Ваш отец очень зол на вас, Пьер, – обратился он ко мне, протягивая руку в белой перчатке. – Он рассказал о ваших обвинениях... печально.
– Я... мне очень жаль, что так вышло. Я на самом деле...
– Понимаю, понимаю. Молодость горяча, да и старость порой несдержанна бывает.
Это он про мое лицо, про нос, который распух и разлил синеву по лицу.
– Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы вернуть мир в дом моего друга. – Вытянув голову, граф принялся рассматривать что-то впереди.
И я оглянулся туда же. Пусто. Серая зыбь дождя, влажная завеса между мной и миром, сквозь которую проступают смутные очертания леса.
И я снова поглядел на графа, увидев вдруг то, что не заметил прежде: тонкую веревочку, дважды обвившую его запястье. Точно такую веревочку, как у меня. Безделица, но...
Но мысль об этой безделице не давала мне покоя. О ней я думал, сидя в густом, промокшем насквозь ивняке, о ней думал, выбираясь, когда протрубили сигнал к окончанию охоты, о ней думал, глядя на охотников – вымокших, измазанных грязью, смиренно переносящих очередную неудачу. О ней думал, прощаясь с де Моранжа. На сей раз кружевной манжет рубашки, накрахмаленный до стеклянной жесткости, прикрыл веревочку, но я-то знал – она там, под манжетом, под тонким батистом рубахи, под жесткой тканью камзола.
– Бывайте, Пьер, – сказал граф на прощанье. – И помните, что все, что ни делается, делается к вящей славе Господней, ибо таков замысел его...
– Аминь, – ответил я ледяными губами и, развернув коня, хлестнул плетью, поторапливая. Домой. К жару камина, к горячему, сдобренному приправами вину, к постели и перине, которая отогреет сомлевшие члены.
Меж тем дождь прекратился, и на Лангедок спустились сумерки. Лиловые чернила на серых красках долин, белыми силуэтами сквозь них скалы, черными – корявые фигуры дерев, что тянулись друг к другу, бессильные обнять. А ветер, странно теплый, гонял клочья тумана по-над редкими болотцами и водяными ямами.
И голоса.
Волки пели диким хором, выплетая голосами ткань ночной реальности, в которой не осталось места для прочих звуков. И жуть, темная, свойственная человеку и живущая в крови его вместе с иными страхами, заставила меня пришпорить лошадь.
Мы шли рысью, потом галопом, я, пригнувшись к гриве, молил Господа о гладком пути, о том, чтобы конь мой не споткнулся во тьме, не упал, ломая ноги и перемалывая меня тяжестью своей. Молил и слушал, не приближается ли вой. Но нет, звери, разошедшиеся песней, умолкли, оставляя ночь другим.
Влажное хлюпанье – копыта месят грязь. Скрип кож друг о друга. Тяжелое дыхание лошади, которая еще не загнана, но осталось немного. И собственное испуганное сердце.
– Тише, – я успокаивал и коня, и себя, заставляя снова натянуть поводья. До дома оставалось всего ничего, мне даже почудилось, что я вижу сквозь тьму огни и слышу запах дыма, чудеснейший из ароматов.
Именно в этот миг, миг веры в почти случившееся чудо, на тропе возник Зверь.
Нет, тогда я его не увидел, просто лошадь вдруг взвилась на дыбы и скакнула вбок, оскальзываясь на траве. Удержалась, но почти села на круп, замерла и рывком, скачком, вернулась на дорогу, понесла, вытянув шею, дико всхрапывая и подкидывая задом. Я мотался в седле, пытаясь удержаться, когда в ногу вцепился Зверь. Челюсти его были подобны капкану, смявшему сапог и раздробившему кость. Я закричал, я выстрелил, но не попал, ибо Зверь отпрыгнул, чтобы в следующий миг снова напасть.
А я, несчастный, уже падал навстречу клыкам и смерти. Я кричал от ужаса и боли, ставшей почти невыносимой, я был почти на земле, но сломанная Зверем нога застряла в стремени, и обезумевшая лошадь несла меня по лесу. Сзади же огромными скачками несся Жеводанский оборотень.
В какой-то момент – время растянулось сплошной полосой боли – стремя отпустило меня, оставляя на земле, среди плетей кустарника, изрядно иссекших руки и лицо. И я, подгоняемый отчаянием, даже сумел перевернуться на живот – тело, избитое, разбитое, плакало о пощаде – и подняться на четвереньки. Мир передо мной плыл в алом тумане, и алым же полыхали глаза Зверя.
Он прыгнул, прижимая меня к земле, полоснул клыками, раздирая и куртку, и плечо, и отскочил, чтобы напасть снова, целясь уже в бок. Он выдрал кусок моей плоти, но не стал его есть – плюнул им же в лицо и захохотал.