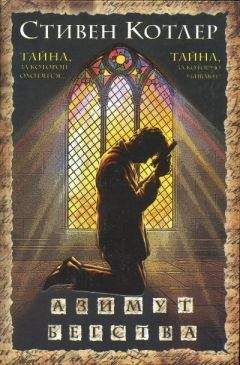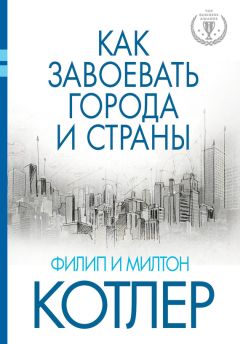Серебряно-седые волосы Пены повязаны совершенно фантастическим шарфом. Шарф похож на цветовой пятнистый психологический тест для слабоумных или на размокшую в море репродукцию Гогена. Взгляд устремлен к горизонту. Острые углы обрамляют жесткое морщинистое лицо, кожа туго натянута на костях, как брезент на стойках тента. Она была очень красива, когда ей было двадцать, тридцать, сорок, — но это было так давно, что теперь невозможно сказать, сколько лет ей сейчас. Она сидит напротив, рукава закатаны, локти упираются в стол. Те, кто не знаком с ней, могут подумать, что на ее запястье татуирован номер. Но на самом деле этой трагедии она сумела избежать.
В открытое окно тянет сквозняком. Официантка тянется к окну, закрывает его, и в это время краска на раме трескается. На ней образуется борозда шириной в детскую бровь. Анхель смотрит на проходящую мимо официантку.
— Меня зовут Пена, — церемонно представляется старуха.
— Анхель.
— Это настоящее имя?
— Трудно сказать.
Она сидит неподвижно. Он никогда не встречал людей, способных на такую неподвижность.
— Тебя так назвал Амо?
Анхель утвердительно кивает.
— Это он может. — Она прищуривает глаза и подается к нему, словно он вдруг резко отдалился, превратившись в смутный силуэт. — Это хорошее имя, оно тебе подходит. Можно я кое о чем тебя спрошу?
Он терпеливо, благожелательно смотрит на нее, с радостью ожидая загадки и тайны. Проходит некоторое время, и он снова кивает.
— Ты бродяга? Это город бродяг. Индейцы, мексиканцы, художники. Целая нелегальная история.
— У меня было несколько моментов.
В дальнейшие пояснения он не пускается.
— Нелегкое это дело — перевалить через горы зимой.
— Очень нелегкое.
— Со временем бродяжничество уничтожает любопытство, — говорит она, помолчав. — Думаю, лучше, когда у тебя есть цель. Я-то хорошо это знаю, у каждого человека есть цель и предназначение. Я верю, твердо верю, что каждый человек приходит в мир со способностью делать что-то, пусть даже мелочь, но он умеет делать ее лучше, чем кто бы то ни было другой. Именно это я вижу, когда смотрю на людей.
— Должно быть, это очень тяжелая работа. Может быть, вам стоит бросить это занятие.
К его великому удивлению, в ответ она смеется. Самое поразительное — как она смеется и что получается из ее смеха. Разве это не странно, что все, что ты думал о человеке, вдруг рассыпается от его смеха.
— Конечно, ты прав, — говорит она. И только теперь до него доходит, что она обладает опаснейшим свойством. Пена умеет нравиться.
Свет за окном и в зале странно и неожиданно меняется. Такое бывает только в пустыне, и для этого явления есть особое слово в древнем языке навахо. Пена знает это слово, а Анхель — нет, и вообще пройдет несколько месяцев, прежде чем он обвыкнется настолько, что перестанет просто скользить взглядом по событиям. Он начнет осматриваться и спрашивать, а она будет улыбаться и отвечать: «Да, для этого есть особое слово». Но сейчас перемена почти неуловима, пожалуй, стало чуть темнее; черты ее лица приобретают странную мраморность. Пена в эту минуту похожа на статую католической святой.
За окнами начался дождь. Пена опускает руку и начинает играть с горстью монет, которые она хранит в завязанном кожаном мешочке. Анхель видел, как она подбрасывала эти монеты, сидя у края площади. В двадцатые годы она получила от матери такие же монеты и маленький сборник с размышлениями по поводу «Книги Перемен» и руководством о праведности унаследованной ими цыганской крови. В конце тридцатых эти монеты позволили ей попасть в притон контрабандистов Эрла Уоррена в Стамбуле, позже с помощью этих монет она попала в узкий кинжал Аргентины и в самую середку Нового Света, где превратилась скорее в сказку, нежели в миф. Монеты плотны на ощупь, твердый металл, кажется, пропитан духом миллионов превращений. Пена оставляет мешочек в покое, складывает руки, и кажется, что она вот-вот начнет молиться, но она не молится, хотя руки остаются сложенными, словно предвещая явление чего-то великого.
— Где ты ночуешь?
Она давно знает ответ на этот вопрос. Анхель наблюдает за ней, но и Пена давно за ним наблюдает. Прошлой ночью она видела, как он взбирался по пожарной лестнице и разворачивал спальный мешок на крыше заброшенного здания пожарной части.
— Все будет хорошо. — При этом она едва заметно иронично улыбается, давая знать, что может быть, да, но может быть, и нет; что иногда наш мир бывает устроен до странности несправедливо. — Я знаю одно неплохое место за городом, там есть навес, домик почти обустроен, ты можешь навести там порядок и поселиться, если хочешь облегчить себе жизнь.
Она замолкает и что-то обдумывает.
— Если, конечно, тебе нужна крыша над головой.
Анхель отказывается, благодарит, платит за свой кофе и уходит. Он не видится с ней несколько дней, но когда встречает, то говорит «да», и она ведет его по узкой извилистой тропке, ведущей сквозь полынь и пыль к окраине городка. Небо темнеет, теряя светлую голубизну, далекие горы окрашиваются кроваво-красным.
Жизнь здесь — великая, сплошная миграция. Мелькание лиц в дверных проемах и дух морального упадка сливаются и повисают в тикающей пульсации давно пролетевшего времени. Закатные сумерки в старой части Иерусалима. Пятница, начало шабата.
Иония Тростинка проходит сквозь клубы кальянного дыма и ряды окаменевших лиц. Ботинки облеплены пылью. Везде глаза, расширенные в ожидании растянутого последнего шанса — наркотического чуда для тех, кто не может держаться на одной вере, глаза выслеживают, ускользают, знают, как и он, что есть вещи, которые поджидают впереди. Он останавливается на углу, чтобы купить сигарет. С утра цены успели снова взлететь, и ему нужна мелочь, которая вместе со смятой туристической брошюркой «Колорадо» лежит в заднем кармане брюк. Он расплачивается, оттирает с указательного пальца коричневое никотиновое пятно и закуривает следующую сигарету, с нетерпением ожидая, когда наступит ночь. В эти зимние месяцы она спускается быстро и стремительно, на вершинах северных гор уже лежит снег. Он запрокидывает голову и пытается отыскать знакомый клочок неба. Но все ориентиры сместились, и он видит только ночь, ощущая уголками рта холодный хрустящий воздух.
Он идет быстро, шагает широко. Не производя ни малейшего звука, как замыкающий шеренги бесшумно идущих в разведку солдат. Он умеет различать следы на камнях стен, владеет искусством древних магов исцелять расслабленных и, очевидно, не готов к тому, чтобы воистину понять, что ушедшего уже не вернешь. Это запечатлено в «И Цзин» — великой «Книге Перемен», потрепанный экземпляр которой висит у него на ремне в бархатном мешочке, перетянутом высохшей и потрескавшейся полоской старой кожи. «И Цзин» — памятник холодного отчуждения, который надо читать, как читают карты опытные шулеры. На самом деле — как известно всем, идущим путем Дао, — это урок бренности жизни и долгого пребывания в высокогорном разреженном воздухе.
Здесь же, напротив, воздух густой и тяжелый, с запада надвигается гроза. Он вышел из Старого Города, и вымощенные красным камнем мостовые стали шире. Он находит нужный переулок, нужную дверь и, минуя короткую очередь, входит в бар.
Заведение принадлежит американцу по имени Макс. Они долгое время вели вместе дела, а выпивали и того дольше. Макс — низкорослый коренастый мужчина с обветренным лицом старого моряка, у него широкий рот, уголки которого постоянно поднимаются вверх, а глаза словно блуждают по дальнему морскому горизонту. Заведение маленькое, но в углу сцена, на которой едва умещаются два трубача, барабанщик и бас-гитара. Правда, народу много, зал сотрясается в танце, происходящем на пятачке площадью в четвертак.
Иония застывает на пороге, привыкая к полумраку. Портье указывает ему на огромный дубовый стол в центре зала, облепленный человеческими телами.
Из-за стола встает человек, приветливо взмахивая рукой размером в добрую половину Израиля.
— Добро пожаловать в «Соленый леденец». — Слова произнесены глубоким баритоном. — Меня зовут Синий Койот, привет.
Иония видит синий шелковый галстук и элегантный костюм в тон к галстуку.
— Прошу, немного доброго шампанского.
Речь звучит по-английски, но с тягучей примесью. Южанин. Ростом около шести с половиной футов. Весом под двести фунтов. Видимо, хорош в драке и на войне. Иония уже слышал где-то это имя, но ни о чем не спрашивает, а просто здоровается. Стакан холоден на ощупь, шампанское еще холоднее.
— Очень хорошее шампанское, — говорит Иония.
— В самом деле, — откликается Макс и ставит на стол еще одну бутылку, — это «Теттикгер», «Граф Шампани», «Блач-де-Блан» семьдесят шестого года. Такая редкость, что сам факт, что мы его пьем, можно считать чудом.