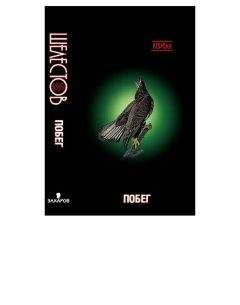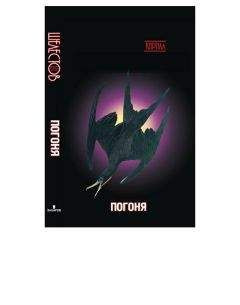А вот это уже было неприкрытым хамством. Он пил чай, поглядывал на меня и снисходительно посмеивался, словно мы обменивались мнениями по поводу персонажей в каком-то кино. Я не собирался ему это спускать, несмотря на все его угрозы. Тоже отхлебнув чаю, я постарался улыбнуться в ответ.
— А разве чиновничья или полицейская власть не такая же броня? — возразил я. — Кто-то свое ничтожество за деньги прячет, а кто-то за должности или звания. Оглянитесь вокруг, много ли в нашем губернском бомонде великодушных или глубоких людей? А в Кремле? Если в широком смысле говорить, то нет разницы между генеральским мундиром или пиджаком от Китона. И то, и другое — обертка, в которой и страх, и любовь внушать легче. Недаром женщинам по сей день военные нравятся, хотя уж сколько анекдотов сложено о солдафонской тупости. Так всегда было, во всем мире, просто у нас, у русских, с колыбели особое отношение к власти. То ли тяжкое наследие Орды, то ли врожденный вывих национального сознания. Чем наглее власть себя ведет, тем мы почтительнее. Зато никто не топчет бывших кумиров с таким остервенением, как мы. Тут уж не Храповицкий виноват, а наш национальный характер. Упал Храповицкий? Дави Храповицкого. Другой поскользнется — мы его затопчем. Вот вы уверены, что между вами и Храповицким — ничего общего. А сними с вас мундир, сколько любящих и преданных душ с вами останется?
По мере того как я говорил, улыбка сползала с лица Лихачева, он начал хмуриться. Я ждал, что он вот-вот вспылит.
— Вон ты к чему подвел! — откликнулся он с сарказмом. — Значит, у нас в России лишь на богатство смотрят да на звания? А что там у человека за душой — всем наплевать, да?
Это было не вполне то, что я хотел сказать, но он нарочно искажал.
— Если мы такие трусливые да продажные, — продолжал Лихачев, повышая голос, — как же мы Гитлера с Наполеоном расколотили да ту же Орду скинули?
— Вопрос не в том, как мы ее скинули, а в том, как мы ее триста лет терпели, — попробовал было вставить я, но он не дал мне договорить.
— А я надеялся, что ты — патриот! — с укором бросил он. — А ты, оказывается, Родину презираешь! По-твоему, нам безразлично, кому поклоны бить, хоть Храповицкому, хоть черту черному? Кто на трон влезет — тот и царь, а скинь с трона — никто и не вспомнит, так? — он отрицательно покачал головой: — Нет. Не согласен я с этим. Бывших кумиров, как ты выражаешься, повсюду оплевывают, не только у нас. В той же Англии еще хуже нашего народ зверел. Был там Кромвель диктатором, все на карачках перед ним ползали, а после его труп выкопали да повесили. А во Франции во время революции что творили? И дворцы грабили, и головы всем подряд рубили: то королю, то Дантону с Робеспьером, даже королевским статуям каменным. Да я тебе тыщу таких примеров приведу по всей Европе. Это толпа бесчинствует, а у толпы нет национальности. Не разберешь в ней, кто француз, кто еврей, а кто татарин. Запомни мои слова: в России не всех подряд с грязью смешивают, а лишь тех, кто того заслуживает!
Он помолчал, чтобы до меня лучше дошло, сумрачно усмехнулся и прибавил:
— И знаешь, в чем тебе не повезло? Ты свое мнение доказать не можешь, а я свое — запросто! Потому как вы с меня погоны не сдерете, хоть Храповицкий твой этим похвалялся. А я его в камеру уже засунул! И еще дальше отправлю. А заодно и погляжу, как его бывшие прихвостни помоями его обливать будут.
Последнюю фразу он произнес с каким-то жгучим удовольствием.
— Валентин Сергеевич, — спросил я, — за что вы его так ненавидите?
Он даже удивился моему вопросу.
— А за что клопа не любят? — отозвался он. — За то, что кровь сосет, да еще и надувается.
— Значит, когда вы к нам на конкурс красавиц приходили, вы уже знали, что его арестуете?
— А я всегда это знал, — ответил он спокойно. — С первой минуты, как его увидел. Никогда он мне не нравился. Конечно, не надо было мне тогда к вам ехать: уж слишком риск был велик, что вы мне провокацию какую-нибудь учините. Мы ведь с моими замами все заранее рассчитали, план действий на разные случаи разработали. По этому вопросу, ключевому, мнение у нас было одно: до ареста избегать всяких контактов. Но уж больно мне хотелось посмотреть, как Храповицкий напоследок куражиться станет, короля из себя изображать. Не устоял я. А Ваня-то, Ваня Вихров! — вспомнил он, хлопнув себя по коленке. — Обниматься ко мне кинулся. Решил, что я по его приказу прискакал! Вот дурак набитый, прости господи. Весь в отца. Эх, как посмотришь порой, кто нами управляет, за страну обидно становится! Зато какой концерт друг твой закатил! И по сцене прыгал, и призами дорогими швырялся, и красоток назначал, кого на первое место, кого — на второе. Все глядят на него и млеют от восторга: сущий Аполлон, только чернявый. А я один знаю, что король у нас голый! — Лихачев тряхнул головой и сверкнул глазами. — Голый король-то! — повторил он мстительно. — Зад прикрыть ему, красавцу, нечем. И как только подумаю, что нашего голозадого короля ожидает, сразу на душе у меня хорошо становится, веришь, нет?
— Верю, — кивнул я. — Вижу. Значит, этот фокус с часами вы заранее придумали?
— Экспромт! — самодовольно объявил он. — Неплохо вышло, правда? Все до одного поверили, даже Лисецкий. Видел бы ты в ту минуту со стороны вашу компанию! И смех, и грех! Правильно ты про них давеча выразился — грош им цена, баранам трусливым! Одно название, что первые лица губернии. Стоят бледные, трясутся, не знают, чью сторону принять: мою или Храповицкого. Кто из двух победит? Кого размажут? И ведь не угадаешь, а промахнуться нельзя! Вот цирк!
Мне ужасно хотелось сказать ему резкость, но я скрепился.
— Валентин Сергеевич, можно узнать, за что вы Храповицкого арестовали?
Я даже не старался говорить небрежно, у меня все равно не получилось бы. Этот вопрос был для меня исключительно важен. Ни я, ни кто другой из нас все еще не имели понятия, в чем именно обвинялся Храповицкий: Лихачев держал это в секрете.
Он сделал вид, что не понял.
— То есть как за что? — притворно поднял он брови, возвращаясь к привычному своему образу. — Воровал много, за то и взяли. А ты решил, что я его к той косоглазой красавице на вашем конкурсе приревновал, ха-ха?
— Я имею в виду официальное обвинение, — не сдавался я. — Ведь оно существует? Ведь не для выяснения личности вы его задержали?
Лихачев сощурился. Некоторое время он молчал, что-то обдумывая, и в его глазах плясали задорные огоньки.
— Конечно, существует, — наконец не спеша заверил он. — Обязательно.
— А можно с ним ознакомиться? — очень осторожно произнес я, понимая, что он меня дразнит, и опасаясь раздразнить его в ответ.
— Ишь, какой любопытный! — развеселился Лихачев. — Сколько я тебе уже секретов поведал, а тебе все мало! Ну ладно, — вздохнул он. — Раз уж у нас такой откровенный разговор получился, так и быть! Покажу тебе. Все-таки мы с тобой старые боевые товарищи, вместе когда-то с коррупцией воевали. Только гляди, никому не слова! — он погрозил мне пальцем. — Это — тайна следствия. За ее разглашение голову оторвут и тебе и мне!
Я с чувством прижал руку к груди, выражая благодарность и полную готовность унести тайну следствия с собою в могилу. Он обогнул письменный стол, сел на свое обычное место, нацепил на нос очки в стальной оправе и открыл дверцу тумбы.
— Это не то, — бормотал он, поочередно выдвигая ящики и копаясь в них. — Это — тоже не то. Где же оно? Куда подевалось? Вот черт! Я же собственными руками его сюда клал. Не мог я перепутать.
Я ждал, затаив дыхание. Он наскоро проверил все ящики сверху вниз и двинулся в обратном порядке, порой выкладывая на стол ворох бумаг и заглядывая в каждую. Мое нетерпение нарастало с каждой минутой, я ерзал и прикуривал сигарету от сигареты. Наконец он с шумом задвинул последний ящик и захлопнул дверцу.
— Нету! — растеряно объявил он, поднимая на меня бледное лицо и снимая очки. — Выкрали...
Я опешил:
— Кто же его выкрал?! Когда?
С минуту Лихачев сидел неподвижно. И вдруг по его лицу пробежала страшная судорога.
— Ты! — взревел он. — Ты его украл!
Я вскочил с места и, вытаращив глаза, уставился на Лихачева. Он тоже вскочил, отвечая мне ненавидящим взглядом. Но уже в следующее мгновение упал в кресло и расхохотался.
— Поверил! — в восторге кричал он, давясь от смеха и раскачиваясь из стороны в сторону. — Опять купился!
Ой, не могу! Да что ж ты такой простодушный, а? Мамочка родная! Кто же из моего кабинета документы украдет, ты сам подумай! Ой, держите меня, а то сейчас помру!
Глядя, как он заливается, я закусил губы и стиснул кулаки.
— Да ладно, ладно, не обижайся, — замахал он руками, всхлипывая и вытирая навернувшиеся слезы. — Ну, люблю я, грешник, пошутить, что ж тут плохого? В нашей работе без чувства юмора пропадешь. Ох, ну надо же так попасться! Аж до потолка подпрыгнул! Кто, кричит, украл?! Ох, ну все, не буду! Показывать я тебе, конечно, ничего не покажу, права не имею. Но своими словами расскажу. Значит, примерно так у нас это выглядит, — он, все еще смеясь, попытался сосредоточиться, даже наморщил лоб. — Статья сто пятьдесят девять, пункт четвертый, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Статья сто девяносто девятая, пункт два, уклонение от уплаты налогов, опять-таки в группе лиц по предварительному сговору. Дальше двести восемьдесят пятая, это, стало быть, злоупотребление служебным положением, тут у нас, само собой, пункт три. Впрочем, у нас все пункты — последние, размер-то — особо крупный. Потом еще сто семьдесят четвертая. Отмывание денег. И сто семьдесят первая, тоже второй пункт, незаконное предпринимательство. В общем, приличный букет получился. Мало не покажется. Все, что ли, я перечислил? — он посмотрел в потолок и потеребил мочку уха. — Ах да! Чуть не забыл! Еще сто девяносто девятая.