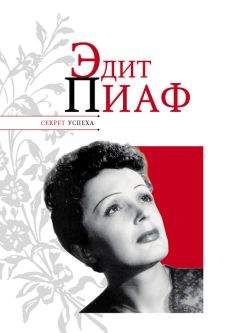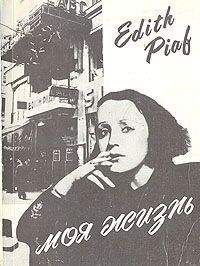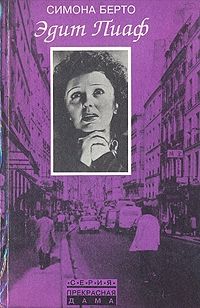Не тех.
В клетушке он совсем не думал об Ульрике, он был увлечен Христиной и корчил рожи. А Христина все пыталась сохранить так свойственную ей серьезность.
Кажется, они целовались, и Габриель слегка расслабил кожаный ремень на джинсах девушки.
— Почему бы нам не полюбить друг друга прямо здесь? — в шутку сказал он.
Она на полном серьезе отказалась.
Потом они вынули карточки из пасти автомата, все остальное теряется в тумане.
Писал ли он об этом Фэл? Если да, то можно легко восстановить подробности.
— …Помнишь ту историю, когда мы с моей девушкой фотографировались на вокзале?
— Какой из них? — опять заводит свою волынку Фэл.
— Последней.
— Это как-то связано с каруселями? С рестораном? С местом преступления?
Просто наказание какое-то! Фэл продолжает гнуть свое, а место преступления выделено особо.
— Нет. Это был просто вокзал. Железнодорожный.
— Тот, на котором ты меня встречал?
— Да.
Фэл улыбается еще шире, и впервые эта ее улыбка неприятна Габриелю. Оскал, а не улыбка, А сама владелица оскала — суть старая плешивая волчица, стерегущая ворота, за которыми спрятана его жизнь: настоящая или придуманная, неважно. Плешивая волчица ни за что не оставит свой пост, увещевания бесполезны,
вот тварь!..
Он не должен так думать, не должен! Во всяком случае — о Фэл, ближе нее никого нет, она всегда помогала ему и сейчас помогает. Она всегда слепо его любила. От слепой любви можно и самому ослепнуть и не увидеть совершенно очевидного: в их письмах, в летописи их жизней, идущих совершенно параллельно и нигде не соприкасающихся, нет никакого смысла.
Это — не диалог.
Но даже бессмысленные, ни к чему теперь не применимые письма Фэл, этот сборник советов на все случаи жизни, — даже они
лучше, чем сама Фэл из плоти и крови.
Фэл, задающая вопросы, на которые нужно давать ответы, и лучше бы это были ответы, по скорости сопоставимые с скоростью пневматической почты в одном, отдельно взятом помещении. Времени на то, чтобы приклеить марку и запечатать конверт нет.
вот тварь!..
Он не должен так думать, не должен!
Лучше думать о том, как было бы хорошо, если бы прямо сейчас, сию минуту, Фэл… Не исчезла, не испарилась, не растаяла, как Фея из сказки, а…
распалась на буквы.
Те, которые он привык видеть в ее письмах. Округлые, четко выписанные; нажим на верхнюю часть и послабление внизу. С буквами намного легче, чем с людьми. Габриель думал, что Фэл — исключение, но Фэл не исключение.
Она такая же, как все.
CARRER DE FERRAN:
НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ
* * *
…Фэл, ничего ровным счетом не узнав о крамольных мыслях племянника, благополучно возвращается к своим пульсарам.
Габриель провожает ее в аэропорту, и они едва не теряются в толпе. Все оттого, что, пока Габриель наводил справки о лондонском рейсе, Фэл приспичило отлучиться в кафетерий. Не для того, чтобы выпить кофе (она редко пьет кофе, бережет сердце) — в кафетерии работает маленький телевизор, и как раз в это время по телевизору объявляют список лауреатов Нобелевской премии.
Никого из знакомых Фэл в этом списке нет.
В этом году астрофизики и радиоастрономы вообще не отмечены, и это удручает.
Единственное, чего ей не удалось услышать, — кто получил премию по литературе и премию мира; немногочисленные посетители кафетерия хором потребовали переключиться на какую-нибудь другую, более удобоваримую программу, а лучше — на спортивный канал. Фэл не слишком-то расстроилась, она, не без основания, считает, что обе эти премии — и литературная в особенности — не отражают реального положения вещей. Литературная премия вообще дается не за талант, а исходя из политической конъюнктуры в мире, какая мерзость! Лично Фэл сбагрила бы нобелевку Вуди Аллену, потому что он большой насмешник, коверный-интеллектуал, словесный эквилибрист, ворчун и брюзга, и при этом — сама нежность.
В это же самое время Габриель ищет Фэл по всему аэропорту, но находит лишь грузного пожилого мужчину в длинном плаще и кашне из тонкого шелка. Несмотря на возраст и комплекцию, мужчина кажется Габриелю настоящим щеголем, фатом. Бирки на небольшом кожаном чемодане и маленьком кофре свидетельствуют: он только что прилетел, сошел с одного из семи рейсов, приземлившихся за последние полчаса. Мужчина пребывает в одиночестве, но не выглядит ни ожидающим кого-то, ни спешащим куда-то. Он абсолютно спокоен, чтобы не сказать — умиротворен, и только ноздри его слегка раздуваются, вбирая в себя реальность аэропорта.
У таких вальяжных людей обязательно должны быть сопровождающие. «Свита, которая играет короля», — думает Габриель.
Вторая мысль Габриеля, связанная с первой: это — Умберто Эко, писатель, вон и очки с бородой при нем.
Как всегда случается с Габриелем, абсурдная идея, втемяшившись в голову, через секунду кажется ему вполне правдоподобной, а через две — единственно верной.
Это — Умберто Эко, писатель, никого другого и быть не может.
Тот самый Эко, что написал «Имя розы» и «Маятник Фуко», и залихватский текст на сигаретной пачке Марии-Христины («ricordati qualche volta di mé»), а еще он философ, культуролог и много лет занимался проблемами семиотики.
У Габриеля нет под рукой сигаретной пачки, но есть чемодан Фэл с двумя внешними карманами: там наверняка отыщется какая-нибудь писчебумажная мелочь.
Так и есть: расстегнув молнию и сунув руку в карман, он обнаруживает кипу крошечных, аккуратно сколотых степлером листков, при ближайшем рассмотрении оказавшихся использованными билетами в португальские музеи. Рассматривать их некогда, но самый верхний — из Национального музея старинного искусства.
В придачу к билетам Габриель вытаскивает гелевую ручку, теперь он полностью экипирован для встречи с Умберто Эко.
Бородатый фат стоит на том же месте, что и две минуты назад.
Зайдя к нему в тыл и несколько секунд полюбовавшись на совесть сколоченным романским профилем (это точно он!), Габриель наконец решается.
Подходит почти вплотную
и поднимает руку в робком приветствии.
Бородач расценивает Габриелев маневр по-своему:
— Такси? — говорит он на вполне сносном, если не безупречном, испанском. — Мне не нужно такси.
— Не такси, нет, — пугается Габриель и тут же протягивает бородачу листки. — Вот.
— Что это?
— Пожалуйста, автограф.
— Чей?
— Ваш.
— Это еще зачем?
— Я понимаю, это не совсем подходящее место и не совсем подходящая бумага… Я не ждал увидеть вас здесь, но я большой ваш фанат…
— Фанат, ага, — мурлычет себе под нос Умберто.
— Наверное, я неправильно выразился. Лучше было бы сказать — поклонник. Почитатель…
— Да, так будет лучше. Это несомненно. Во всяком случае, не отдает собачьим потом из подмышек. И мокрыми футболками.
Умберто смотрит не на Габриеля, а куда-то вдаль — туда, где в немом почтении застыла гипотетическая свита: средневековые монахи, аббаты, хранители библиотек; животные из бестиариев (выделяются катоблепас, амфисбена и макли — пойманный во сне); трудяги и вечные экспериментаторы алхимики, которые — единственные — знают, что для приготовления испанского золота необходимы красная медь, прах василиска, уксус и человеческая кровь. То тут, то там над их головами вздымаются таблички на латыни и старонемецком.
УМБЕРТО
«Умберто, смиренный пресвитер»
«УМБЕРТО, МАГИСТР»
«Умберто, сваривший вкрутую человеческий глаз»
Нет только таблички «такси для сеньора Эко», но Умберто и не ждет такси, он сам сказал Габриелю об этом. Умберто почему-то никуда не спешит и речь его слишком проста для мастера культурных коннотаций, правильно ли Габриель определил значение слова «коннотация»?[30] — это ведь совсем не то, что банальнейшая «аннотация».
— …Так вы дадите мне автограф?
Борода Умберто разъезжается в улыбке, он сам вынимает ручку из пальцев Габриеля и что-то пишет на Национальном музее старинных искусств.
— Спасибо. Большое спасибо. Я никогда этого не забуду…
Умберто снисходительно кивает и отворачивается, снова являя Габриелю романский профиль: аудиенция закончена.
Удалившись на почтительное расстояние, Габриель разжимает ладонь с спрятанными в ней листками:
«io gia di qua» —
написано на верхнем, хорошо бы еще узнать, что означают эти слова — одно короче другого. Подобные, не слишком обременительные для горла звуки могли бы издавать птицы из бестиариев: харадр — символ добродетели, ласточка — символ нестойкости, ночной ворон. Хотя Умберто и выказывал известную долю пренебрежения к неожиданно образовавшемуся поклоннику, к автографу он подошел серьезно: буквы ровные, снабженные большим числом свободно парящих хвостиков, закорючек и перекладин. При желании по этим перекладинам можно пробежаться, как по лестнице: снизу вверх — от последнего слова к первому; сверху вниз — от первого слова к последнему.