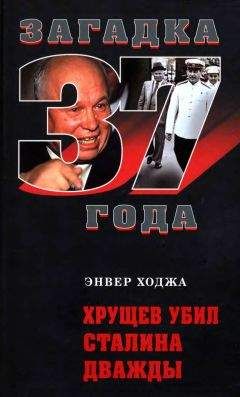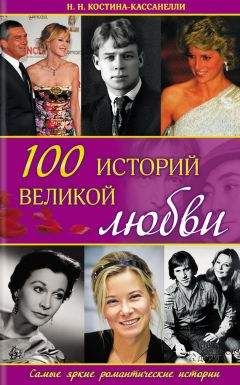— А уж как мне хочется! — заверила его жена.
— Ну, мои родители, по-моему, к тебе прекрасно относятся, — осторожно заметил Бухин.
— И относятся, и даже носятся как с писаной торбой! И со мной, и с девчонками. У тебя прекрасные родители, Саш. Честно. Но знаешь, ужасно хочется обратно. Правда, там другая ситуация — получается, что ты живешь с тещей…
— Даш, у тебя тоже прекрасная мама, — поспешил заверить он жену.
— Ну, трения все же случаются.
— А что ты хочешь, она учительница все-таки. А я мент. Та еще парочка. Даш, ты же знаешь, даже если твоя мама чем-то недовольна, я не обижаюсь. В конце концов, она мне сделала самый большой подарок в жизни — родила тебя. — Он потянулся и поцеловал жену в щеку.
Дашка счастливо засмеялась.
— А тут еще и это… с Пал Палычем… все-таки очень некрасиво получилось. Не в том плане, что он ей предложение сделал, а то, что все узнали. Теперь я перед ней виноват.
Они оба помолчали. Саша осторожно катил коляску, стараясь не тревожить дочерей, — пусть поспят подольше. Дашка шла рядом, наслаждаясь прогулкой, комплиментами мужа и отчасти своим положением матери, родившей это чудо природы — двойняшек. Она беззаботно помахивала рукой, и на лице ее блуждала умиротворенная улыбка.
— Даш, а ты стихи сейчас пишешь? — спросил Бухин жену, бережно спуская коляску на мостовую. — Или тебе с малышней некогда?
— Не тряси так, — попросила Дашка, — проснутся. Стихи я всегда пишу. Независимо ни от чего. Они из меня сами выливаются. А почему ты спросил?
— Ну… не даешь ничего последнее время.
— А ты сам не хочешь!
— Даш, давай поссоримся, — задушевно попросил муж, и она засмеялась.
— Если тебе интересно, то они все в прикроватной тумбочке лежат. Бери и читай. Я их не прячу. Ну и о театре я в последнее время написала несколько стихотворений, — сообщила Даша.
— А почему о театре?
— Ну, ты же, когда приходишь домой, все время что-то о театре рассказываешь. И потом, я ведь люблю театр… хоть мы последнее время нигде и не бываем.
— Вот Саньку и Даньку кормить бросишь…
— Нет, — испуганно сказала жена. — Рано еще!
— Во-первых, они скоро все подряд есть станут. Бабуля им вчера по баранке дала, так харчили!
— Им просто зубы хотелось почесать. Они больше перемазались, чем съели.
— Они тебя не кусают? — озабоченно осведомился Сашка.
— Еще чего! Родную мать кусать. Но, ты знаешь, руки уже распускают. Вчера Санька меня так ущипнула! Саш, если хочешь прямо сейчас, то вот! — Дашка порылась в сумке и вытащила несколько исписанных листков.
— Давай, — обрадовался он.
Они уселись в небольшом дворике, под сенью лип, и пока Дашка слегка покачивала коляску, озабоченная тем, чтобы дочери не проснулись, Сашка жадно вчитывался в беглые, написанные рукой жены строчки:
Какой репертуар! Я и умру, играя —
Что собственную смерть мне стоит пережить?
Распутница — гляди — открыты двери рая,
Притворщицам одним в них не дано входить.
Что делать мне с тобой, беспечная особа?
Комедиантка, фарсы — это для тебя.
Офелия?[38] Да брось! И что тебе Гекуба?[39]
Ты прожила всю жизнь, саму себя любя…
И амплуа твое — солидная матрона,
Кухарка, мать семьи — почтенная карга…
Ты рвешься представлять любовную истому?
Да в зеркало взгляни ты на себя сперва!
Ну что ты! Ну, не плачь! Я пошутила, право,
Утрись. Весь грим сойдет, куда тебя теперь…
Угомонись, к чему трагедий нам отрава,
Ведь нам пора кукушку слушать, не свирель!
Зачем так близко к сердцу? Не держи обиды.
Какая осень! Красок буйство, торжество…
Свинья не съест, и Бог, должно быть, нас не выдаст.
И слез твоих не стоит это ремесло!
Дашка безразлично смотрела в сторону, но муж видел, что она волнуется. Как странно, волшебно и необыкновенно преломляется все, что она видит, слышит и воспринимает! Вот и то, что он рассказывал ей о театре и своей работе, воплотилось в эти немного путаные, но все равно замечательные стихотворные строчки… Он развернул следующий лист:
Играть до последнего! Пусть не узнает никто,
Как холодно в доме, и пыльно, и тихо, и страшно.
Всю жизнь пересечь, запахнув поплотнее пальто,
Как улицу темную ночью, шагая отважно.
Я женщина, что вы! И я не пойду в темноту!
Я буду вязать у камина носки и перчатки,
И гулкую слушать ночами двора пустоту,
Боясь коридором пройти не спеша, без оглядки.
Я буду сидеть до последнего. В этом углу
Поставим приемник, собаку мы купим и кошку.
А вечером — дома. Пусть льет за окном. И во мглу
Не я побегу по размокшей и скользкой дорожке.
Здесь — будет кровать. Я детей нарожаю на ней.
И я не пойду никуда, как меня ни гоните…
Играть до последнего. Петь до скончания дней.
Придумывать все, если нет в нашей жизни событий…
Грустное стихотворение. Дашка, конечно, пишет иногда такие вещи, которые ее совершенно, никаким боком не касаются. Но она чувствует, что происходит с другими людьми. Непонятно, как являются к ней образы и как она преломляет их через себя… Сашка понимал только, что он женат на совершенно необыкновенном существе, которое сидит сейчас себе рядом, помахивает сорванной веточкой над коляской, чтобы мухи не докучали дочерям, дома варит борщ и иногда сочиняет не совсем понятные стихи. Впрочем, почему не совсем понятные? Он же все чувствует и понимает, а посторонних это не касается.
Нарцисс[40] — в себя влюблен, а страстный бык — в Европу[41],
Я влюблена в тебя, а в Иванова — ты.
А Иванов — в компьютер. Уходя с работы,
Ему он оставляет в вазочке цветы.
Италии сапог влюблен в Лазурный Берег,
Туманный Альбион об Африке грустит…
А я — в тебя опять. И сплетням я не верю,
Что Иванов тобою, как юлой, вертит.
Во Фрейда[42] Юнг[43] влюблен, Тангейзер[44] — в Лорелею[45],
Взрываются вулканы спермою Земли…
Мимо меня пройдя, ты Иванова клеишь…
Да, вечер пережить — не поле перейти!
Сашка дочитал до конца и засмеялся. Дашка смотрела на него своими голубыми, широко распахнутыми глазами и тоже улыбалась.
— Да уж! — сказал он. — Точно: вечер пережить — не поле перейти. Особенно когда Санька с Данькой разойдутся. А у тебя глаза, как у русалки, — заметил он.
— Лишь бы не хвост, — парировала жена. — Ну что, оценил мое творчество? Пошли дальше?
Они в мирном согласии дошли до самого дома. Дети все еще спали, когда они остановились у подъезда.
— Смотри, как здорово отсюда наши окна смотрятся! — Дашка счастливо вздохнула.
Окна были как окна, как почти все окна в их доме, но Бухин тоже углядел в них что-то особенное.
— Во вторник возьму пару отгулов, и будем переезжать, — решил он.
— А тебе дадут?
— Должны дать, у меня уже куча отгулов скопилась.
— Но могут и не пустить, — резюмировала жена.
— Могут. Они все могут. Ну, у нас ничего экстраординарного сейчас нет, так что будем надеяться, что наш переезд все-таки состоится. Подниматься наверх будем?
— А зачем? Русалку ликвидировали, теперь даже посмотреть не на что, — иронически заметила Дашка. — Такой день сегодня хороший… И выходной, и ты дома… Давай лучше еще погуляем.
— А может, на скамеечке под подъездом посидим?
— Нет, Саш, давай лучше где-нибудь в другом месте посидим. А то выйдет бабулька какая-нибудь знакомая и начнет над Санькой и Данькой причитать: на кого похожи да почему их двое… Одна от тебя, а вторая от кого? — Она фыркнула.
— Слушай, я действительно как-то раньше не задумывался: в самом деле, вторая от кого? — Бухин состроил озадаченное лицо.
— Не скажу! Это мое личное дело!
— Тогда я тебе про театр тоже ничего рассказывать не буду!
— Ты и так ничего интересного не рассказываешь, тебе все время тайна следствия мешает. Мне самой все додумывать приходится. Так что очень мне нужен твой погорелый театр!
— Он не мой, а государственный. А еще оперы и балета!
— У тебя, Бухин, личного имущества вообще никакого нет, — печально заметила Дашка. — Только жена, дети и теща. Да и та в последнее время какая-то странная стала…
— Ну, Пал Палыча жалеет, наверное.
— Слушай, я его тоже жалею. Делал-делал ремонт — и влюбился! Давай действительно пойдем куда-нибудь, пока они спят, чего мы под подъездом стоим? А то вдруг Пал Палыч сам выйдет, подумает, что ты опять с проверками пришел, не натворил ли он еще чего!..