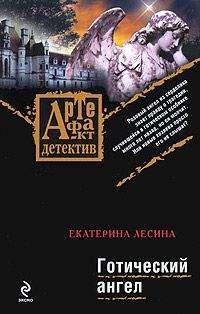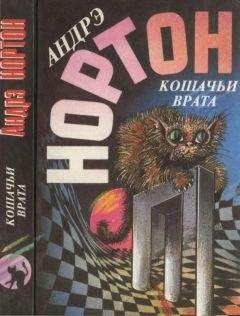Ознакомительная версия.
Одиночество – это судьба. И душа на осколки, которые ранят. Больно, крови нет, а больно. Все правда, каждое слово, а он говорит – шутка. Он как все… а Духа не существует.
Ижицын С.Д. Дневник
И снова ложь. Уже не моя – чужая и оттого более омерзительная. Наталья и О. Сколь глуп я был, не замечая явной его страсти. А она? Почему она поддалась? Держались за руки, говорили о чем-то… о чем? Уж не обо мне ли? Но какая разница, пытаюсь убедить себя, что виденное истолковано неверно, но самому же смешно. Снова лгу. Вокруг все друг другу лгут. Даже она.
Больно. Горько. Не могу судить, потому как не имею права. Зато теперь я совершенно точно знаю, как поступить.
Ночь в бежевых тонах. Нонсенс. Но она есть, мягкая, нежная, просачиваясь сквозь пальцы, лижет руки холодом, дрожит на белом воске свечей, кутается в жесткое кружево электрического света. Мне неуютно, и остальным тоже – Динка молчит, снова непривычно задумчивая и совсем на себя не похожая. Иван говорлив и нарочито бодр, Ижицын вроде бы как слушает компаньона, а в мою сторону и не глядит.
– Завтра подписываем контракт! – Иван, откинувшись на спинку стула, промокнул губы салфеткой.
– Ну да… – А Ижицын не слишком-то рад, во всяком случае, мне так кажется. Хотя… наверное, ошибаюсь.
– А я тебе говорил! Говорил, что если чуток надавить…
– То можно и раздавить, – пробормотала Динка. – Извините, я пойду. Аппетиту нет.
– Ну… это… я, наверное, тоже пойду. – Иван выбрался из-за стола бочком, неловко, едва не столкнув открытую бутылку вина. – А завтра отметим? Верно?
– Верно. Завтра будет чего отмечать. – В словах Евгения мне снова чудится скрытый смысл. Мнительная я. И голова болит, это от вина, наверное, оно сегодня какое-то резкое, с горчинкой.
Но пью, чтобы избавиться от мыслей, от вопросов, от обид, от всего. Пусть будет лишь ночь, та самая, в бежевых тонах, и бокал красно-черного горького вина.
Хорошо, что Ижицын молчит, ни о чем не спрашивает и мне не нужно отвечать. Можно закрыть глаза и сделать вид, что его вообще тут нет. Я есть, а его – нет.
– Тебе тоже не помешает отдых. – Все-таки он заговорил, спокойно, нейтрально, как с чужой. Хотя… я и есть чужая.
– Завтра все будет выглядеть иначе, – пообещал Ижицын. – Вот увидишь.
Увижу. Но до завтра еще далеко, целая долгая ночь.
Проснулась я от сквозняка и скрипа половиц. Еще оттого, что в комнате кто-то был, кто-то осторожно крался, стараясь оставаться в тени.
Я вообще не помню, как заснула. И голова болит. Кажется, вечером я напилась.
– Василиса? Ты спишь?
Я хотела ответить, что нет, не сплю, но в горле сухо и слова застряли. А ночной гость и без слов понял, укоризненно покачал головой.
– Не спишь. Жаль. Извини, ничего личного…
И, наклонившись над кроватью, зажал рот рукой.
– Тише… тише, нам не нужны свидетели… совсем не нужны.
Дышать нечем. Рука воняет туалетной водой, жесткая, грубая, перекрывшая воздух… вырваться, стряхнуть, но не выходит, он сильнее. Уперся коленом в грудь, давит. Душит.
За что?
– Тихо, больно не будет. Никогда больше.
Никогда. Я все-таки задыхаюсь. Я все-таки умру. Я не хочу умирать…
Там, за порогом, нет темноты, там свет, желтый яркий электрический свет. И воздух.
– Васька? Васенька, ты живая? Ты ведь живая, да? Этот псих ничего тебе не сделал, скажи, Вась?
Не могу, ничего не могу, только дышать и, сглатывая кислую слюну, давить рвотные позывы, стоит открыть рот, как все вывернется наружу. Стыдно.
– Да живая она, живая, – успокаивающе сказал кто-то. – Очухается.
– Я вас уволю, всех, в полном составе, – пообещал этому кому-то Ижицын. – Кажется, было обещано…
– Ну Евгений Савельич, ну чего вы? Ничего ж не случилось, живые все, а что чуток помяли, так девушка извинит. Извините ведь, а?
Извиню. Позже. Потом, когда надышусь. Когда-нибудь ведь надышусь… и тошнота пройдет. Все пройдет. Динка гладит по голове, Динка плачет. Ни разу не видела, чтобы она плакала, а тут вот… а бритоголовый с оттопыренными ушами и широкой бычьей переносицей парень выглядит смущенным. Что он делает в моей комнате? Что они все тут делают?
– Вы это, простите, что так вышло. – Парень наклонился, поскреб щетинистый подбородок, вздохнул вымученно и предложил: – Может, это, врача позвать, а?
Ижицын молча вышел за дверь. И парень, пожав плечами, пробормотал:
– Ну это… я пойду, наверное. А вы отдыхивайтесь, и не ребрами, а диафрагмой дышите, глубоко. Ну, – он протянул руку, – будем знакомы, если что, я – Миша, начальник охраны Евгения Савельича. Ну и… врач сейчас будет. Евгений Савельич всегда о тех, кто на него работает, заботится. И о вас позаботится. За ущерб по полной заплатит.
– Заплатит, – пообещала Динка. – Еще как заплатит… по полной. А ты иди отсюда! Слышишь? Вон пошел!
И тапочком швырнула. Не попала, правда.
– Вась, ты не думай, я не с ними… я тоже не знала. Я ничего не знала, – заревела Динка, когда за Мишей закрылась дверь. – Он ведь говорил… он говорил, что Ижицын сумасшедший. А он и вправду на психа похож. А оказалось, что это Ив – псих… и что зарезать тебя хотел.
– Зачем? – Кажется, отпустило, и странное дело – тошнота прошла. Совсем прошла.
– Чтоб как в истории, чтоб, типа, Ижицын тебя из ревности сначала придушил, а потом и… так этот, из охраны, сказал. Они ж ничего мне не говорили. Ижицын вчера попросил спать не ложиться, его ждать. Я… я ж подумала, что он другого хочет, что… как все, ну знаешь.
Знаю, Динка-Льдинка, Динка-блондинка. Как перед нею устоять? Никак.
– А они вдвоем заявились. Сели, сидят, молчат. А потом этому, Мише, по рации чего-то вякнули, ну и сюда полетели… и я с ними, а тут этот… Ив, и нож. И ты точно неживая. Знаешь, как я испугалась?
Она забралась на кровать с ногами. И плакать перестала. Кое-как закрутившись в одеяло, Динка вытерла размазавшуюся тушь и спросила:
– Ты ж не обиделась, да? Тебе он все равно ведь не нравился, ты сама говорила…
– Говорила.
От Динкиных духов свербит в носу, обида с привкусом иланг-иланга и капелькой ванили и возвращение к исходной точке бытия. Правильно, чего я ждала? Неземной любви и счастья? Наивно.
– А он богатый и не очень чтобы противный, Ив-то младший компаньон… я не сразу поняла, что младший… и что своего у него в фирме почти нету. Вот.
Вот. Холодно в комнате, забираюсь под одеяло, к Динке. Злиться на нее? Чего ради? Она такая, какая есть. И я тоже. А ангела продам, хотя бы для того, чтоб отвязаться от Ижицына. В конце концов, ангел – всего лишь статуэтка.
– Ну… если ты уже в норме, то я, наверное, пойду. – Динка, в очередной раз всхлипнув, но уже вяло, невыразительно, выбралась из-под одеяла, сунула ноги в тапки, ладонями отряхнула помятый костюмчик от невидимых крошек, провела пальцем по губам, векам, бровям, нахмурилась обиженно. – Вот блин, на чучело похожа, наверное. Только это, в общем, Женька просил передать, что хочет поговорить со всеми. Завтра, вроде как… объясниться.
Объясниться? Какое милое старое слово, какое благородное и обтекаемое.
Смешно.
Динка ушла, а духи ее остались, проросли в вязком воздухе разноцветными нитями. Иланг-иланг – благородный багрянец, медово-желтая ваниль, немного цитрусовой позолоты и царственный пурпур погибших роз.
Красиво. Тошно. А сон тягуче-розовый и душный, не вырваться, не выскользнуть. И я тону.
– Сегодня последняя встреча, – заявил Ольховский. – Сегодня я умру. Пора уже. А вы садитесь. Мы о дуэли говорили… или собирались. Не помню. С памятью странно так, будто и не моя. Значит, дуэль?
– Дуэль, – подтвердил Шумский, усаживаясь на ставшее уже привычным место. А и то верно, только с дуэлью и не выяснил, остальное же – понятно. – По какой причине вы вызвали Савелия Дмитриевича?
– Я? Это он меня, он вызвал. Повод… я еще не знал, что Наташа… что он убил ее.
Знал. Рассвет. Поздний по осени, сумеречный, долгожданный. Она решится, теперь она точно решится уйти из этого дома, и неважно, по какой причине – пусть страх, пусть отвращение к тому, кто смел называться ее супругом, – насмешка какая, – пусть просто желание бежать. Разве важно? Лишь бы с ним, снова, как раньше. Сумерки редели, висели в воздухе рваными тающими лиловыми клочьями. Сил дождаться, когда растают, не хватило. Сейчас время, чтобы забрать принадлежащее по праву.
Как эта безделушка, с которой Наталья не расставалась, чужой подарок, точно веревкою привязавший ее к Ижицыну, украденный от обиды и злости, но он вернет. В Петербурге, или в Бристоле, или в Америке… но это будет уже его, Сергея Ольховского, дар, который она примет с радостью и благодарностью. Как прежде.
Ее дверь приоткрыта, и в этом почудилось приглашение. Толкнуть, шагнуть, сморщившись от скрипа половиц, замереть.
В комнате пахло кровью. И смертью. И еще немного обидой, кислой и вязкой, как яблоко-дичка.
Ознакомительная версия.