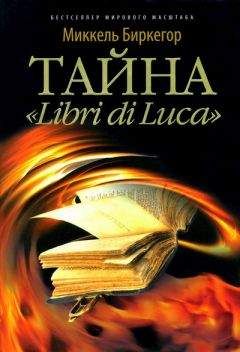Даша перекатилась с пятки на носок, приподнялась как перед трудной нотой:
— Говорила, что я никогда не стану музыкантом. Что не могу играть. И у меня нет таланта, нет стремления, — губы девушки сжались, вновь вызвав образ матери, только уже наяву. Даже голос ее изменился, когда она вытолкнула эти слова, — У тебя нет ни малейшего шанса… Так она говорила. Но я играю. Спасибо тебе, Джена!
Лицо расслабилось, скулы перестали рвать щеки, девушка чуть раскраснелась от последнего признания.
— Тебе спасибо, родная, — кивнула женщина. И тут же повернулась ко мне, — Есть вопросы?
Я будто снова вошел в круг света на узкой сцене. Джена неотрывно смотрела на меня и я ощущал, что еще десяток людей занят тем же. Слова долго не могли прийти, но потом я спросил:
— Да. Есть. Как получается, что мы видим одно и то же?
Джена скривила губы:
— Неужели ты это хочешь узнать? — голос ее нарастал с каждым словом, — Больше ничего спросить не мог?! Зачем знать, как устроен телевизор, если тебе нужно найти свой канал?!!
Ноздри Джены раздувались, прищуренные глаза злобно смотрели на меня. Черт, и в самом деле — я же не для этого сюда пришел. Это все инженерный склад ума — всегда надо знать, что и как работает.
— Я… Хочу знать… — горло превратилось в высохший кран на кухне, мысли путались, — Знать… Жива ли моя дочь? Смогу ли я ее найти?
Джена откинулась на подушку. В глазах мне почудилась удовлетворенность. Словно этих слов она и ждала.
Женщина кивнула, а потом уставилась в пол недалеко от моей ступни. Губы ее шевелились, время от времени выпуская наружу кончик языка. Казалось, рот ее пробует новую еду на вкус.
Наверное, не ответит. Нет, не ответит — она сидела уже минуту или больше, все так же нажевывая. Правильно менты говорили — не ходите к экстрасенсам, чушь это все.
— Ты ее увидишь, но не найдешь, — голос резко щелкнул посреди тишины. Широкие, округлые глаза ее вновь смотрели на меня. Серьезные, донельзя карие в своей уверенности. И опять почудилось, что все это — сцена, флейта, разговор — дурацкий спектакль, из театральных экспериментов. Сейчас дадут свет в зал, а там уж «ложи блещут». А я — лишь guest star среди актеров. Или статист? Я пытался продумать очередной вопрос, когда Джена заговорила сама:
— Получил ответ?
Я смотрел на нее, а она — на меня. Пристально и тяжело. В теле моем что-то щелкнуло и оно обмякло. Спина надломилась и я согнулся к полу. Как в молитве. Почему я ни разу за весь год не обратился к Богу? Настя вот да, ходила в церковь. А я — не смог даже коротенькую просьбу сказать. Верни мне ее, верни, Господи…
По щекам потекли слезы. Я начал всхлипывать и постанывать. От всего — от сцены, видений, полета с моста, ушедшей жены, пропавшей, потерянной — мною же самим — дочери…
— Ты рыдать сюда пришел или что-то сделать как мужчина? — хлесткие слова поскакали по деревянным полам и рикошетом ударили в меня.
Я приподнял голову. Нос хлюпал, нижняя губа подрагивала.
— Что… — я еще раз всхлипнул, длинно выдохнул, — что я должен сделать?
Инструкция Джены была проста. «Вбирай в себя людей. Они будут идти мимо, стоять рядом, лежать с тобой в одной постели (в этом я пока сомневался), а ты должен видеть их». Собирать их память, даже забытую ими самими. Стать флешкой, дропбоксом для этих людей.
И это лишь тренировка. Основные занятия ждут впереди. Если справлюсь.
Наутро, сидя в своей кухне, я увидел соседку — не Людмилу, а одинокую пятидесятилетнюю бабу из-за стены. Сумасшедшую. В самом деле, сумасшедшую — весной и осенью ее как по графику увозили в дурку, подлечивали и отпускали. До новых встреч. Привет родным.
Пока я сидел с бутербродом в руке, кухонный стол начал стремительно отлетать куда-то вперед (или меня тащило назад?) По лицу шершаво мазнули стены, мелькнули обои, а потом я увидел ее.
В темно-бордовом изодранном кресле сидела морщинистая женщина. Из одежды на ней были лишь коричневые зимние сапоги чуть ли не до колен. Глаза распахнуты, почти выпучены, правая рука судорожно дергает нитки из обшивки.
Женщина резко вскочила, прошлась по деревянным полам. Облупленная краска скрипела и похрустывала под каблуками. Сапоги застыли, хозяйка их вскинула голову и закричала:
— Кто здесь? Че надо? — гримасы на лице переменялись с неимоверной скоростью, от горгулий до Мадонны.
Я мягко попытался отклеиться от ее взгляда. Вдруг женщина прогнулась в спине, отклячив задницу, и заорала, нестерпимо пронзительно:
— Уй! Уй! Ууууууй!!! — сапоги стрекотнули по кусочкам краски и соседка вновь погрузилась в кресло. Уставилась в телевизор, который, оказывается, был включен, — Вот я и говорю, говно, полное говно, говно, говно, гвно, гоно, гно, гн…
Язык все блямкал по губам, но слов было не разобрать. Женщина мерно кивала, невидящие глаза смотрели сквозь экран. Голубой экран, голубые зрачки.
Меня внесло внутрь этой безумной голубизны. Еще глубже? Так бывает? Шум ветра пришел позже, а вместе с ним перед глазами замельтешили: подвалы, узкие глиняные лестницы, почему-то певец Валерий Сюткин, хвост крокодила, реклама духов и запах…
Запах кошачьего говна. Я не сразу узнал в двадцатилетней стройной девушке нынешнюю безумицу. Ноздри девушки шевельнулись, расширились.
— Фуууу, что ж такое, — девушка жалобно поморщилась. Нагнулась под кресло, которое смотрелось единственным ярким пятном посреди комнаты с ободранными обоями. — Мурзик, ты что ли?
Девушка встала и прошлась по комнате, заглядывая в углы. На полу темнели влажные ободранные обои.
— Только ремонт начали, а уже гадишь, Мурзик! — девушка выговаривала с улыбкой, тело плавно гнулось, когда она пыталась найти неведомого мне Мурзика.
— Вот ты где! — метнулась куда-то под стопку бумаги и вытащила оттуда серый, в подпалинах комок.
Кот сопротивлялся такому извлечению, но поделать ничего не мог — хозяйка держала его туловище одной рукой, другой уцепилась за холку животного.
— Знаешь, Мурзик, а ведь это гадко, — девушка сжала кота сильнее, тот недовольно мявкнул, — мы тут ремонт затеяли, а ты гадишь.
Девушка прошла к креслу, задевая бумажные комки. Обои шуршали, хрустели и трещали под ногами. Мурзик смирился и обмяк в руках хозяйки. Обои еще раз хрустнули, и тут же, с последним звуком, подхватив ноту, влетел ветер…
Позвонки прорезались сквозь белую кожу девушки. Передо мной маячила голая спина, тонкая и длинная, переходящая в приплюснутую задницу с красно-синим прыщом на левой ягодице. Девушка клонилась над белизной ванны. Вода грохотала по стенкам. Тело девушки тряслось от рыданий. Звуки плача и рокот воды время от времени перекрывались еще одним звуком — кошачьим криком. Мурзик выл и орал. Когти скрежетали о металл ванны, но девушка не отвлекалась — она все так же склонялась над водой.
— Мурзик, это же так гадко, нельзя же так, нет, невозможно так жить, Мурзик, ты же подарок, ты его подарок, а его больше нет, нет его, поэтому и тебя больше нет, нельзя жить, ты гадишь, гадишь, Мурзик, кругом говно, от тебя говно, говно, говно, говно, говно…
— Говно!!! — женщина замолкла. Снова в кресле, прибавив три десятка лет.
Глаза застыли так же невидяще. Ноги, обутые в сапоги, то расходились, то вдруг щелкали коленями друг о дружку. Она сводила их и разводила, между мелькали волосы, утыкавшие лобок. Темные, спутанные, они уже начали редеть — от возраста или от больничных таблеток.
Руки вскинулись к потолку. За ними взлетели ноги — так, что один из сапогов сполз на пятку. А потом все эти конечности с треском рухнули. Руки — на подлокотники, ноги — на пол.
Все вокруг захрустело и я, безо всякого перехода, оказался в своей кухне, за столом. Чай остыл. Хлеб валялся на полу, а кусочек сыра в пятнах масла мятым комком прятался между пальцев.
Это безумие. Полнейшее. Как галлюцинации, в которых голая сумасшедшая топит кота, помогут мне в поисках дочери? Как?!
Давай включим голову, уговаривал я себя, с опаской поглядывая на стену, за которой слышались крики соседки. Конечно, это сложно. И вообще — после смерти там, в тонущей машине, все кажется абсурдом — размышления, предпосылки и выводы, гипотезы и аксиомы. Какие могут быть убеждения после видения сморщенной кожи истерички?
И все же… Полет. Слова Марины. Медсестра. Врач. Соседка по лестнице. Вика. Обнаженная флейта. Голая сумасшедшая. Что я могу проверить? Сходить в больницу? Благодарю. Театр? Вряд ли. А вот к теплохалатной Людмиле заглянуть можно. Да, так и сделаю, только выкурю сигарету на площадке.
Дым вместе с мыслями улетал в форточку. Сколько людей так же курили в это окошечко до меня, пытаясь разобраться: не снесло ли им крышу от обыденности, потолок которой срывали бытовые заботы, душевные раздраи, крики из соседних квартир, жены, которые ушли еще вчера, но так и не вернулись и вряд ли вернуться, дешевый алкоголь из магазина за углом… Дым все так же влетал в открытый кусок неба, а я стоял на пыльном бетоне.