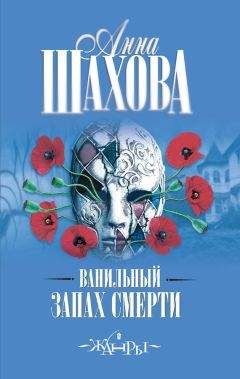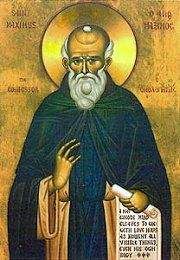В первую ночь, в гостинице для богомольцев, в столь непривычной обстановке для избалованного Мальтой и Ибицей Никиты, он прокручивал свое прошлое с какой-то сухой отстраненностью и поражался убожеству и бессмыслице, царившим в его такой важной, значительной и успешной, как казалось, жизни. Она вся состояла из цифр, которые Никита, лежа сейчас на жестком топчане и клочковатой подушке, ненавидел. Математическая спецшкола, университет, престижная работа. Конечно, дело не в том, что ему приходилось заниматься расчетами – это-то как раз был вполне творческий процесс: математика музыке форы даст для человека «посвященного» в ее тайны, талантливого. Но в случае с Никитой речь шла не о призвании или увлеченности, а ТОЛЬКО о средстве добывания материальных благ. С благами все было в полном порядке: машина, квартира, поездки – все это присутствовало. И не имело никакой ценности. Потому что не приносило ни грамма радости. Ощущение пустоты усугублялось отсутствием любви. Да что там! Даже влюбленности. Он встречался с женщинами постоянно. У него имелся даже список любимых путан. И они не приносили Нику радости. Женщин, которые всерьез претендовали на роль спутниц жизни, он тоже не любил. Более того: тяготился ими. И потому с путанами оказывалось проще, потому что честней. Он искал отдохновений в легких наркотиках: и в один день понял, что грань почти перейдена и скоро зависимость его станет необратимой. Впрочем, и эти «симуляторы» жизни он тоже не любил. Увлечения? Да не было никаких увлечений. Ну, фотографировал неплохо. Хотя подчас ленился закачивать фотки в компьютер, мудрить с ними – интересен оказывался сам процесс съемки и не слишком важен результат. И еще он многих обижал. Походя. Просто так. Для самоутверждения, что ли? Родителей, женщин, подчиненных. Даже соседей. Впрочем, и люди ему платили тем же – неприязнью. В лучшем случае – холодностью. Только вот Ваньку, приятеля университетского, один раз пожалел, впервые столкнувшись воочию с таким тяжким горем.
Находясь со старцем, который позволял Никите находиться рядом (что несказанно удивляло монахов), он насмотрелся на неизбывное горе вдосталь. Савелий молился за больных и умиравших детей, за увечных, прибитых потерями и недугами, сумасшедших и бесноватых, за раздавленных беспредельной жестокостью близких, за убийц и расчувствовавшихся бандитов. У старца на ВСЕХ хватало сердца, слез, молитвы. И эта величайшая, не укладывающаяся в обыденное понимание любовь перевернула в один миг жизнь столичного топ-менеджера. Никита, сроду не читавший Священного писания, не знавший толком и десяти заповедей Божиих, оставил, как евангельские рыбаки по одному слову Спасителя, все: сети с уловом, дом и родню, и пошел за Христом. Тогда он этого, конечно, не осознавал. Он просто не мог расстаться с батюшкой. Он не мог оторваться от чистого источника, в сравнении с которым любая иная вода кажется зловонными стоками, не мог подвергнуть сомнению обретенный смысл жизни, не мог отказаться от нечаянного дара любви, который крохотным зерном вдруг пророс в душе и набирал силу и мощь.
За Никитой на его собственном джипе приехала коллега, давно уже имевшая на логиста «виды». И, видимо, небезосновательно, раз даже ключ от его машины у нее имелся. Она не узнала «суженого» в рабочей спецовке и трениках, которые пожертвовал Нику кто-то из паломников: в джинсах неудобно было работать на скотном дворе. Ксения, хлопая накачанными бордовыми губами, обзывала его «ненормальным, душевнобольным, который нуждается в психушке». А он уже ничего не мог лихо и аргументированно сказать в ответ и только смущенно лепетал: «Да не… я пока с батюшкой… пока я тут еще…»
Ксения уехала не солоно хлебавши на автобусе, пророча Никите глад и смерть. Неделю спустя топ-менеджер оформил машину на какого-то мужичка с тремя детьми, который приехал к старцу за помощью (у бедолаги оказалась запойная жена).
– А что? Верно. Им до храма, говорит, три километра от поселка ходить приходится. Куда ж с детьми? Машина им в самый раз, – ответил батюшка на известие об отданном «лендкрузере», будто речь шла о старом, выношенном полушубке, списанном на дачу. Сам батюшка раздавал ВСЕ, что ему жертвовали. А богатенькие и сильные мира сего жертвовали немало. Ох как немало. Потому-то старец потихоньку, стесняясь, впихивал пачки, конверты, сумки с деньгами тем, кто нуждался.
Клавдия нуждалась в баснословной сумме, которую либо приходилось возвращать, либо прощаться с жизнью: убивают и за меньшее. Она же влезла в рулеточные долги, прикрывшись именем мужа. Вернее, его бизнесом. Этого ее благоверный «бандит бандитыч» женушке простить не мог. Она явилась в монастырь в пьяном угаре со своим ангелоподобным мальчиком-фаворитом. Так вот что-то ей захотелось: перед смертью – в монастырь, к известному старцу, «на которого еще надо посмотреть – что за старец такой выискался?». Клавдия, как и Никита, была не только неверующая, но и вообще не верящая в «чувства добрые», что ни лирой, ни слезой, ни воззваниями к совести не пробудишь. Впрочем, в существование совести она тоже верила слабо. В гостинице размалеванная деваха, на шпильках и в мини-юбке, учинила пьяный дебош: влезла на стол в трапезной и начала распевать блатные песни, задирая ноги. Утихомирить ее удалось самому габаритному паломнику на тот момент – Никите. Он жил при монастыре уже полгода. Схватив плясунью поперек тощего туловища, Ник отволок ее к кухонной раковине и засунул головой под ледяную струю.
– Что ж не утопил? – извивалась, рычала и плакала безумная девка, когда Ник вытирал ей голову какой-то сальной тряпкой.
– Надо будет во Славу Божью – утоплю. Пока не надо.
Девица утихомирилась, услышав ответ угрюмого мужика, и ушла спать. Вернее, оплакивать свою пропащую жизнь. На следующий день Никита отвел умытую и замотанную в монастырскую юбку-фартук Клаву к Савелию. Тот как увидел ее, бросился навстречу со словами:
– О-о, ну, слава Богу, послушница наша пришла!
Клавдия опешила, даже отступила от старца:
– Вы путаете, батюшка. Я не п-послушница… Я даже не знаю, что это такое.
– Да послушница, образцовая послушница, – говорил с улыбкой Савелий, усаживая горемыку рядом с собой. – Ну, рассказывай про беду. Намучилась? – и так он тихо и отчаянно это сказал, что Клавдия упала в рыданиях к его ногам.
– Ну, поплачь, дочка. Поплакать хорошо, детка, – старец гладил ее по голове, как безутешного ребенка.
Клава плакала несколько дней, не переставая. Она постоянно находилась в храме – сидела на раскладном стульчике у иконы «Споручница грешных» и выплакивала горе, стыд, страх, мерзость, которые душили и мешали ей жить. «Фаворит» испарился наутро после ночного дебоша, а лезть в монастыре с общениями и утешениями не больно-то и будут. Сюда и приходят – каяться и плакать. И молиться. Когда появляется это умение и потребность. Клавдия не помнила, когда ее позвали к батюшке: в какой день, в какое время суток? Старец немного помялся и ткнул в руку «кающейся» увесистый полиэтиленовый пакет с ручками – на нем красовался разухабистый Дед Мороз в вихре снежной гонки, лихая тройка ноздрястых рысаков и написано: «Счастья в Новом году!».
– Поезжай с Богом. И не бойся ничего. Все образуется, доча.
Только в гостинице Клавдия посмотрела в пакет: он был полон запечатанными пачками долларов. Она кинулась к батюшке, чтобы отдать. Ее не пустили – старец отдыхал. А через какое-то время вышел грубый монах и сказал, что батюшка Савелий дважды не повторяет, сказал – езжай, значит, езжай. И слушайся, если беды новой не хочешь. Клавдия раздала долги. Через год – наряды и драгоценности. А еще через пару лет, по благословению батюшки, развелась с мужем, который уже утешился с другой, «нормальной бабой, а не кликушей трехнутой», и ушла послушницей в Голоднинский монастырь. Два года назад схиархимандрит Савелий постриг Клавдию Сундукову в иночество с именем Калистрата. Никиту он постриг еще раньше: монашеское имя Даниил тот носил уже семь лет… Или всего семь лет.
Ну, кому охота тащиться в воскресный день, да еще Первого мая, да еще от шашлыков на даче, по отменной погоде, невесть куда и незнамо на сколько? Диму Митрохина утешало одно: нужно как можно быстрее расквитаться с этим тяжким «монастырским делом» и отгулы обеспечены. Наверняка! Он поддал газку побольше, сделал приемник погромче, окно пошире, и… в этот момент раздался требовательный телефонный звонок.
– Димон! Здорово и с праздничком! – бодро приветствовал коллегу Женька Ломов, который вчера дежурил. Он уже явно «разогревался» перед обедом.
– Кому праздник, а кому и дальняя дорога. В обитель трезвости… – хмуро ответствовал Митрохин.
Женька хохотнул.
– Я вот тут подумал, что не сказал тебе вчера, рано убежал, а данные в «каптерке». Не видал по вашей убийце сведения?
– Да я не заезжал в отдел. Что-то интересное?