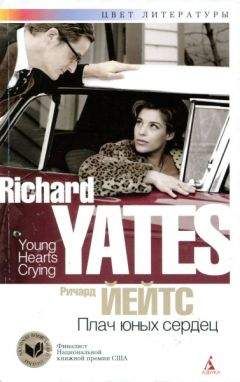Только тут я спохватился, что Зинка уже какое-то время надо мной стоит.
- Ну что, Зинка? - сказал я. - Как жить будем? Дедом с бабкой?
Она хотела ответить что-то, но вдруг заплакала. И тоже на траву присела.
- Мишка... - всхлипывала она. - Мишенька...
А я смотрел, как Константина в машину "скорой помощи" провожают - в больницу увозят, руку ремонтировать, думал о Катерине, договаривающейся сейчас с этим "важняком", о том, что если внук будет, то надо будет Михаилом назвать... Впрочем, это Гришка с Катериной и без меня сообразят... И жизнь казалась одновременно и пустой, и полной. Пустой - потому что какой же ещё ей казаться, в разоренное это утро, расшитое прохладным золотом, безразличным к людским бедам и радостям? Когда перед глазами это поле Куликово, будто и впрямь новая татарва на Русь нахлынула, и сыновья мои, наподобие древних богатырей, на рубеже эту татарву встретили? И полной потому что такая бесконечность в ней разворачивалась, что только жить и жить...
А ещё задумался я, Зинку теребнуть, чтоб выдала на литр самогонки, или обнаглеть и у Гущикова тридцатку стрельнуть, до завтра или послезавтра. Потому что меньше, чем без литра, я этот день не переживу.
ЭПИЛОГ
Прошло три месяца. И был осенний Париж, над которым, вырываясь из распахнутого окна, кружил голос поэта, умершего в этом городе, тот же голос, что во время оно закружил, отпущенный кем-то, над Угличем, вольным соколом в ясном небе, готовым закогтить сердце и печень Кузьмичева Степана Никаноровича, палача на почетной и тихой пенсии.
Кто знает, может, выходец из России обитал за этим окном, а может, студент Сорбонны, выбравший своей специальностью русскую филологию, ещё раз прослушивал записи, пытаясь вникнуть и понять, и соколом с руки отпускал мелодию русской речи над кружевными балкончиками, над кафе, в котором можно выпить особый - нормандский - яблочный сидр, пленяющий тонким вкусом не меньше, чем знаменитые вина Бордо и Шампани, и над стрекотом мотоциклов, ловко виляющих среди застрявших в "пробках" машин:
Опять над Москвою пожары,
И грязная наледь в крови,
Но это уже не татары,
Похуже Мамая - свои...
Да, трудно было, в прекрасном далеке, понять эту магию слов. Может, другие стихи мертвого поэта помогли бы:
И не пуля, не штык, не камень,
Нас терзала иная боль,
Мы - бессрочными штрафниками
Начинали свой малый бой!
Такая была эпоха, что навеки поэт становился бойцом штрафного батальона, единожды избрав свою судьбу и единожды подчинившись правде звучащей речи, и каждое слово его становилось бойцом штрафного батальона, и нельзя было иначе. Лживыми и пустыми получались слова, если не шли грудью на смерть. Ведь и Высоцкий свои "Штрафные батальоны" писал прежде всего о себе, о судьбе поэта и поэзии. И каждый, у кого слово было живо - от высоколобого Бродского до условно-приблатненного Розенбаума - так это ощущал. И потому помогала поэзия людям выстаивать в никому не интересных, кроме них самих, никчемных и малых боях, потому и несла их на распахнутых своих крыльях, сохраняя для будущих поколений память и о чистоте, и о мужестве, и о Прекрасных Еленах и дивных женах и возлюбленных преходящей эпохи...
А теперь эта эпоха кончилась, началась другая - может быть, не менее великая, но другая - и поэзии надо было привыкать к существованию в мирной жизни, переламывать в себе психологию смертника-штрафника, избавляться от сознания, что каждое слово, живое и правдивое, может оказаться последним. Оказаться тем словом, на котором пулю поймаешь. И трудно, очень трудно давалось это возвращение в мирную жизнь. Трудно было созерцать пейзаж после битвы, как созерцал его Яков Бурцев, и знать, что есть жизнь впереди.
И была осенняя Варшава, где пока ещё живой поэт записывал, глядя на чуть смешные и странноватые московскому глазу разноцветные квадратики блочного дома напротив:
В этом городе нашей тоски,
Посреди отлетевшего лета,
Где блуждают ещё двойники
Алых роз, приютившихся где-то
В утлой памяти прожитых вспять
Постсоветских советских реалий,
Где никто не хотел умирать,
Но при том все равно умирали,
Легкой тенью скользит в зеркалах
Не посмертных, но возле предела,
Где кончаются совесть и страх
Твое прежнее юное тело;
И квадратиком красным горит
Символ прежней эпохи, Таганка.
И трамвайчиком дальним гремит
Наш мотив похоронного танго...
И был осенний Берн, где златовласая красавица сидела в уютном кресле, за чашечкой кофе, пока работники банка - включая высшее руководство хлопотали, стараясь получше угодить столь знатному клиенту.
И кофе был хорош. Она отпила ещё глоточек - и закурила, задумавшись.
Все и впрямь оказалось очень просто. Документы, подтверждающие, что такой-то человек является владельцем такого-то дома, были волшебным ключиком, отпирающим счета, на которых осела так никогда и не найденная часть прибыли от бриллиантовой аферы. Кому пришло в голову сделать номинальным владельцем этих счетов не конкретную личность с конкретным именем, а обладателя конкретной недвижимости, неизвестно. Но задумка оказалась замечательной. Дом - это даже не пароль, пароль, пусть самый хитрый, слишком бестелесен, чтобы быть стопроцентно надежным, а дом - это нечто вещественное, это и документы солидные. Владелец большого дома, по западным понятиям, вполне может быть и владельцем крупнейших счетов. И подозрение никогда не возникнет, что здесь имеет место "черная касса" или отмывка "грязных" денег. И дом всегда можно увести из зоны внимания следствия, передав его - перепродав, как бы или якобы - совершенно постороннему человеку. Что и было с успехом проделано...
И была у этого дома ещё одна тайна - тайна, до которой не докопался никто. И, возможно, не менее важная, чем первая. Тайна, объясняющая, почему дом достался именно Кузьмичеву...
Сейчас, припоминая все произошедшее, она пыталась объяснить себе, почему вернулась. И почему подарила предсмертную надежду богатырю на берегу реки...
Вернулась-то она, потому что в отлично спланированной и осуществляемой операции что-то пошло наперекосяк. Оказавшись в Москве, она под собственным именем, Людмилы Семеновны Ордынской, вошла в собственную квартиру на Киевском проспекте. За квартирой присматривали - и домработница, и личный её охранник, поэтому все было на своих местах, свежие продукты в холодильнике, нигде не пылинки. С облегчением переведя дух, она выпила "Мартини" со льдом и решила принять ванну. Ванна наполнялась водой с душистой пеной, когда зазвонил телефон. Она не стала брать трубку. Ее голос на автоответчике сказал:
- Здравствуйте. К сожалению, меня сейчас нет дома. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала.
Пискнул сигнал, и ехидный голос произнес:
- Привет от дяди. Он просит, чтобы ты не перекладывала больше заботу о племяннике на чужие плечи и не морочила голову по пустякам.
Она прослушала сообщение три раза, прежде, чем стереть. Потом, спустив воду из ванной, она отправилась в обратный путь.
До места она добралась перед рассветом. Пробираясь вокруг участков леса, на которых шло побоище, она начала понимать, что произошло.
Так она добралась до берега реки. Она видела, как Сизый и его человек впрыгнули в катер, как попытались отплыть от берега, пока трое других, выхватив пистолеты, готовились у самой кромки берега сдержать Михаила.
Этих троих расстреляла она, поняв, что шансов обрушить на них свою ярость, прежде, чем его самого изрешетят пулями, у Михаила не будет. Сизый замер с открытым ртом, увидев, как падают его люди. И тут на берег выскочил Михаил, с кувалдой в одной руке и с автоматом в другой.
Он шатался, он был сильно изранен. Сизый успел выстрелить и продырявить ему бок. Но затем Михаил очередью из автомата уложил сидевшего за рулем катера, а на Сизого обрушил кувалду, по колено забежав в воду.
Потом он выбрался на берег и упал. И тогда она подошла и склонилась над ним.. Он был так изранен, что удивительно, как он продержался до сих пор. Только его богатырский, поразительно живучий, организм мог справиться с такими ранениями.
Он открыл глаза и увидел её.
- Ты... - пробормотал он. - Пришла...
- Да, - ответила она. - К сожалению, я немного опоздала. Но это ничего. Даже если мне опять придется уехать, я обязательно вернусь к тебе. Найду тебя в Швеции, в доме с банькой на берегу фьорда. Ты ведь попаришь меня?
Почему она поцеловала его, почему дарила надежды, которым, она знала, уже не суждено сбыться? Может быть, именно потому, что сбыться им было не суждено, что, даря эти надежды, она, по большому счету, не брала на себя никаких обязательств.
И, во всяком случае, жалости в ней не было. Если бы все сводилось к жалости, она прошла бы мимо умирающего, поскольку жалость была ей чужда. Может быть, ей двигало восхищение профессионала - уважение к отлично выполненной работе смерти. А может быть... может быть, в этом парне опять привиделся ей смутный и ускользающий образ того мужчины, которому она могла бы принадлежать всей душой. Да, она предала его... но при этом она не стала бы его убивать. Третьего человека она встречала в своей жизни, с которым она могла бы просто спать, бок о бок, и впускать в себя, и проводить с ним время, а не переспать ради того, чтобы вернее уничтожить намеченную жертву. Да, это был настоящий мужчина, из редкой, почти не существующей ныне породы. И, как и в первых двух случаях, этот мужчина сделался ей недоступен ещё до того, как она поняла, что могла бы быть с ним и покориться ему. Смерть опять оказалась могущественней, чем она - оказалась любовницей более страстной и более притягательной.