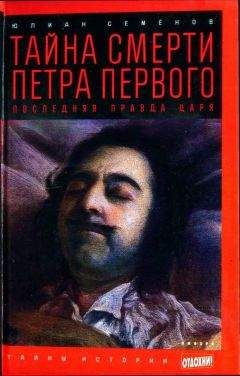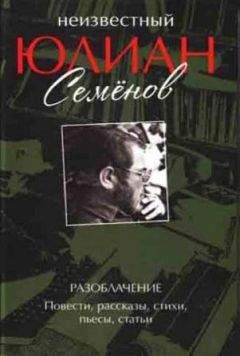Ознакомительная версия.
— Шоу идет на Пикадилли.
Ростопчин испытал ужас; медленно обернулся, стараясь увидеть кого-то другого, незнакомого и страшного:
— Что вы сказали?
Старухи протянула ему газету:
— Тут написано про какого-то Степанова. Может быть, это именно тот, который вас интересует?
Ростопчин взял газету; вечерний выпуск; на второй полосе напечатаны кадры кинопленки: Степанов с Че; в военной форме у партизан Вьетнама; в Никарагуа с расчетом зенитного пулемета; с палестинцами; в Чили; последнее фото в Сотби, вместе с ним, Ростопчиным, рядом сидит улыбающаяся Софи. И заголовок: «А сейчас — новое задание КГБ — внедрение в высший свет Лондона! Кто вы, доктор Степанов?» Жирным курсивом был набран адрес театра, «сегодня вечером Степанов даст политическое шоу, текст которого утвержден бюро кремлевской пропаганды».
Ростопчин протянул старухе монету:
— Я возьму эту газету?
Старуха, посмотрев монету, заметила:
— Мало дали, номер стоит в три раза больше.
Гадилин сидел с Пат в такси, напротив входа в театр; когда подкатила желтая малолитражка, на дверцах которой было написано название газеты, телефон и адрес, водитель, не выключая мотора (стоянка запрещена), бросился к театру, зажав под мышкой пачку газет; Гадилин сказан:
— Ну фто ф, пора и нам, а?
— Идем...
— Через пару минут.
— Волнуетесь?
— Я?! — Гадилнн рассмеялся. — С чего вы взяли? Я по призванию драфун. Помните лозунг товарищей эсеров? В борьбе обрстсф ты право свое...
Ростопчин сел за столик возле окна, так, чтобы было видно такси, заказал себе тройную порцию водки, спросил «Столичную», из России; медленно, чувствуя, как молотит сердце, прочитал заметку «Кто вы, доктор Степанов?». Так называли Зорге, вспомнил он. Был даже фильм о нем.
О чем я? — удивился Ростопчин. Просто, наверное, ошарашен, вот в чем дело. Погоди, «Эйнштейн», давай разбираться без гнева и пристрастия. Что, собственно, случилось? Разве я не знал, что Степанов был и у партизан, и в Чили? Он всегда восторженно говорил о Че. Ведь во всем этом для меня нет ничего нового. Для тебя — да, ответил он себе, но для здешней публики все это внове, и поэтому поверят. Погоди, а чему, собственно, они должны поверить? Как — чему? Тому, что Степанова внедряют в здешний высший свет. Тому, что он выполняет задания своего КГБ. Стоп. Минута. С чего началось наше знакомство? Ведь не он меня нашел. Его нашел я, когда прочитал о том, что он делает для возвращения наших картин и книг И пригласил его к себе, разве нет? Да, это было так. Черт, как же называлось это румынское лекарство у сэра Мозеса? «Геро» или «анте», что-то в этом роде. Надо бы лечь в хороший санаторий на пару месяцев и привести в порядок сердце. Не приведешь, возразил он себе потому что тебе шестьдесят пять, жизнь прожита; это отрадно, что ты хорохоришься, значит, остались еще какие-то резервы, но себе самому надо говорить правду; все кончено, отпущена самая малость, как ни горько; остаток дней здесь, на земле, надо провести достойно, не впасть в маразм, не мотаться по предсказателям, стараться вести себя так, как вел раньше. Нет, так нельзя. Федор Федорович рассказывал об актере Снайдерсе: тот умер потому, что продолжат считать себя молодым, даже после того, как отпраздновал шестидесятипятилетие... Ну и что? Правильно делал! Нет ничего страшнее, чем забиться в конуру и ждать. Ожидание любви возвышает, ожидание успеха в деле учит мужеству, ожидание смерти — противоестественно... Почему? Вовсе нет. Ведь не смерти ждут старики, когда затаиваются, а чуда. Вдруг в какой-то лаборатории изобретут искусственный белок? Или какой-то особый сердечный стимулятор? Или эрзац-почки? Живи еще пятьдесят пять лет... Не хочу... Нет, неверно, оборвал себя Ростопчин, ты хочешь этого. Ты закроешь глаза на то, что станешь высохшей мумией и не сможешь любить, путешествовать и пить. Ты сможешь только существовать... Ну и что? Это ж так прекрасно, существовать... Я су-щест-вую! Погоди, но ведь Степанов действительно ни разу не просил меня ни о чем, не призывал стать красным, не боится критиковать то, что происходит дома, только он не злобствовал, когда говорил о беспорядке, лени, малой компетентности, он всегда искал какие-то решения, предлагал альтернативы... Да, он исходит из прочности их строя. А разве я считаю, что Советы разваливаются? Нет, не считаю. Это здесь так считают, но ведь они не знают и не понимают Россию. Слишком сложна у русских государственная идея, слишком трудно ее понять без глубокого знания предмета, слишком особа и трагична история; единственное в мире евразийское государство, отчего об этом никто не думает здесь?
Он выпил водку медленными, с л а д о с т н ы м и глотками; неторопливо закурил; ты сейчас встанешь, поедешь в театр, вручишь картину Степанову и скажешь то, что надо сказать; нельзя отказываться от того, с чем прошла половина жизни, только потому, что кто-то хочет этого. Нет, ведь верно, кому-то очень не хочется, чтобы мы делали с ним то дело, которое началось пять лет назад; и эта слежка, когда мы ехали из «Клариджа», и Софи, и этот торг, да и Мозес этот самый... Что — Мозес? Он спас России Врубеля, нельзя быть неблагодарным. И нельзя поддаваться подозрениям, это мерзостно. Но кому же мы мешаем? Кому мешает он, Степанов?
— Прежде всего, — продолжал между тем Степанов, — я бы no-рекомендовал иностранцу, приехавшему в Советский Союз, точно определить, чего он хочет. Если он намерен получить изысканный сервис, ему следует бежать домой сломя голову; наш сервис не навязчив; более того, он весьма сдержан.
В зале засмеялись.
— Но если вы хотите узнать что-то о нашей культуре, да и не только о нашей, то я бы очень рекомендовал вам начать путешествие не с Третьяковской галереи, которая общеизвестна, но с Театрального музея Бахрушина и с Библиотеки иностранной литературы. Там вы сможете понять многое из того, о чем у вас совершенно не знают. И то и другое — уникально. Советовал бы также посмотреть экспозиции Исторического музея и музея Востока, это поможет понять концепцию России. Следующий вопрос о театрах... Большой знают все, но и помимо Большого в Москве есть что посмотреть. Правда, языковой барьер будет затруднять понимание спектаклей, но это уже не наша вина, а ваша беда... У нас в Москве столько средних специальных школ, где дети изучают вашу речь со второго класса, сколько в Англии и Америке — институтов... Так что, кто кого хочет лучше знать — очевидно. Вы сдержанны в этом желании, мы — наоборот.
Годфри чуть приподнялся в кресле, услышав какой-то шум наверху, там, где был вход, освещенный темно-красными фонариками; одна из помощниц, поняв его взгляд, быстро пошла наверх; туда же, заметил Степанов, продолжая отвечать на вопросы, подошли другие девушки, вся рать Годфри; потом одна из них быстро спустилась, Годфри подошел к краю сцены, склонился к ней, девушка ему что-то шепнула, он чуть склонил голову, вернулся на место и, повернувшись к Степанову, оперся подбородком на кулак, всем своим видом показывая, как ему интересно выступление русского.
Когда Степанов начал зачитывать очередной вопрос, Годфри подался к нему еще ближе:
— Дим, прошу простить... Дело в том, что привезли вечерний выпуск газеты... Я не знаю, кто привез и зачем, но там хроника, посвященная вашему пребыванию в Лондоне, просят раздать по рядам. Я думаю, мы все же не станем прерывать собеседования. Видимо, желающие поговорят с вами в холле, после выступления.
— Я впервые принимаю участие в шоу, — ответил Степанов. — Все-таки узурпатор сцены вы, а не я, так что поступайте, как у вас принято.
— Путь раздадут газеты! — выкрикнул по-русски Гадилин. Годфри удивленно посмотрел на Степанова; тот перевел; голос человека показался ему знакомым.
— Пожалуйста, если вы хотите высказаться, — сказал Годфри в темноту, чеканя каждую букву, — напишите свое пожелание или вопрос на листках, которые вам предложат мои помощницы. Видимо, джентльмен опоздал, — обратился он к Степанову, — и не слышал мое объяснение по поводу того, как будет проходить шоу.
— Пусть раздадут, — негромко заметил Степанов. — Это, наверное, неспроста, пусть себе.
— Мне сдается, вы не правы.
— Тогда не надо.
Девочки Годфри действовали виртуозно — улыбка налево, улыбка направо; некоторое замешательство, п о в о р а ч и в а н и я, шепот были погашены; длинноногая американочка в коротенькой юбочке принесла на сиену ящик, набитый листками с вопросами.
— Вас хорошо эксплуатируют, Дим, — сказал Годфри, стремительно п р о б е г а я поступившую корреспонденцию. — Мы, капиталисты, зря время не тратим, если пришли на вашу р а б о т у — работайте! — И, отложив три вопроса, он передал остальные Степанову.
— «Что знают в России о западной живописи?» — прочитан Степанов вопрос. — У нас есть коллекции, не очень-то уступающие здешним. В Эрмитаже, например, залы Матисса мне кажутся самыми большими в мире. У нас прекрасный Пикассо; кстати, «Любительница абсента» тоже в Эрмитаже. К сожалению, из харьковского музея нацистами были похищены Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Гольбейн, Смелей. Всего из Украины было вывезено триста тридцать тысяч произведений культуры.
Ознакомительная версия.