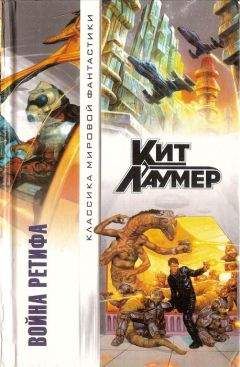Пятого числа Буш провел все утро здесь, на виду у соседей — пенсионеров из дома № 10: это было проверено до его заявления. Никаких причин подозревать его не было. Он попал в поле нашего зрения потому, что был единственным хорошим знакомым Ищенко в этом городе. Парторганизация мебельной фабрики аттестовала его как пьяницу и бабника, что было нехорошо само по себе, но не являлось криминалом в данном случае.
Мы вошли в дом. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами.
— Не туда, не туда, — сказал Буш. — Там сосед живет.
В прихожей на подзеркальнике (в зеркале отразились я и Буш, покрасневший от жары и напряжения) лежала женская сумочка. Настоящая лаковая, определил я. О такой сумочке мечтала моя жена, но найти ее можно было только в комиссионном магазине, и то с большим трудом.
Буш усадил меня на стул.
— Ох, жарища! — простонал он, стягивая через голову рубашку с темными пятнами под мышками. — Сразу в ванную: ногу — под холодную струю. И душ примите.
— Знаете, мне неудобно как-то. Я сейчас пойду. Вот только нога пройдет, и пойду, — нетвердо сказал я.
— Слушайте! — слегка торжественно заявил Генрих Осипович. — Я человек обязательный. Вы меня из-под машины вытащили, и я у вас как бы взаймы взял. Я должен оказать вам услугу в свою очередь. Вы приезжий?
— Да.
— Может быть, вам нужно что-нибудь устроить? Не стесняйтесь. Где вы остановились?
— Видите ли… — протянул я.
В этот момент открылась дверь, ведшая, по-видимому, в комнаты. В прихожую кто-то вышел. Меня не было видно: я сидел на стуле за массивным платяным шкафом.
— Геночка! — произнес женский голос. (“Интересная интерпретация имени Генрих”, — успел подумать я). — Я не слышала, как вы пришли. Встреча прошла на уровне? Чем интересовался наш детектив Сипарис? Он был так любезен со мной, когда я прилетела…
Буш давно уже кашлял.
— Ой, вы не один?
Теперь она, наверное, заметила мою вытянутую ногу.
Я выглянул из-за шкафа и привстал.
— Извините, я не одета, — кокетливо улыбаясь и не трогаясь с места, сказала она.
Она была в халатике до коленей, расшитом райскими птицами. Колени крупные, красивые. Рослая. Аккуратно подведенные глаза. На вид лет тридцать (по паспорту — сорок один); только на лбу две четкие, как нарисованные, морщины. Ларионов, разглядывая ее карточку (фото нашли среди вещей Ищенко и копию сразу послали нам в комитет), даже вздохнул: “Наградил же бог, не обидел!” Было непохоже, чтобы она плакала в три ручья, как расписывал Буш. Он лгал. Значит ли это, что все остальное, сообщенное им, ложь? Но зачем Бушу вилять, если он ни в чем не замешан? Значит, замешан? А может, просто боится, что его могут заподозрить — знакомый, пили вместе, — и все это сверхосторожность? На всякий пожарный случай? А может, он выгораживает ее? “Ох и работенка же у нас, — подумал я. — Двухсменная, вредная и так далее. Почему Буш так заинтересовался временем убийства? Или он только делал вид?.. Как всегда, сто тысяч разных “как” и “почему”.
А Генрих Осипович между тем расцвел.
— Этот молодой человек только что спас мне жизнь, — сообщил он ей. — Вытолкнул из-под машины в последнюю минуту… Ах, я ведь даже не спросил, как вас зовут!
— Борис.
— А меня Генрих Осипович. А это Клавдия Николаевна.
— Можно просто Кла-ава, — почти пропела она. — Я сейчас переоденусь и расцелую вас за спасение нашего дедушки.
Генрих Осипович поморщился. “Эге”, — подумал я.
— Марш в ванную. Боря! Вам сейчас же нужно поставить ногу в холодную воду. Он ушибся, — пояснил он Клавдии Николаевне, не глядя на нее.
— Какая красивая у вас жена! — как бы мимоходом заметил я.
— М-м, — сказал Буш, как будто у него заболели зубы.
— Вы слегка ошиблись, — спокойно ответила Ищенко. — Мы не муж и жена. Генрих, я сейчас приготовлю вам что-нибудь, вы наверняка оба голодные.
— Ради бога, не беспокойтесь! — воскликнул я.
— Ну-ну. В вашем возрасте надо любить кушать, если уж речь зашла о возрасте. — И, отечески обняв за плечи, Буш повел меня в ванную. — Это вдова моего друга, — зашептал он в коридоре. — Прелестная женщина, с характером. Овдовела несколько дней назад, а держится по-мужски: на вид, как птичка, веселая, ничего нельзя по ней сказать.
“Похоже, что не только на вид”, — подумал я, заходя в ванную комнату.
Генрих Осипович положил поперек ванны доску. Я покорно снял брюки и сел на нее, спустив ноги в ванну. Генрих Осипович открутил кран. Тут я поднял глаза и увидел синеватое пятно в половину потолка.
— Ого! — сказал я. — Что тут у вас было? Генрих Осипович поморгал и чуть заметно нахмурился.
— Сосед наверху наполнял ванну и забылся, и вот результат.
— Но вы, кажется, поверху уже белили?
— Нашел тут мастеров. Халтурщики. Ободрали как липку, а пятно снова проступило.
— Верно, сразу красили, — определил я. — Потолок просохнуть не успел, а они не прокупоросили.
— Сегодня утром еще подбеливали.
— А когда это случилось? В смысле — протекло?
Он куснул губу и посмотрел на меня.
— Шесть дней назад, — сказал он. — Я в садике клумбу полол, потом зашел в дом, гляжу: настоящее наводнение.
— Вы знаете, помогает холодная вода! Прямо-таки здорово помогает, — сказал я, массируя колено.
“Хитрил или не хитрил?” — опять подумал я.
В этой комнате пахло духами.
— Мы пока здесь посидим. Чтобы не мешать, значит, — сказал Буш. — А она соберет на стол.
Едва мы вошли, Генрих Осипович стал прятать женское белье, в беспорядке разбросанное по комнате, — он старался это делать незаметно. На стене висела картина: дородная голая красавица, прикрывшаяся чем-то легким и прозрачным. Она двусмысленно улыбалась. Под картиной стояла кровать. Двуспальная. Покрывало с кружевами, горка смятых подушек — видно, Ищенко лежала, когда мы пришли. А вот и книга, которую она читала. Я скосил глаза и разобрал: “Как только г-н Кастанед удалился к себе в келью, ученики разбились на группы. Жюльен не примкнул ни к одной из них; его сторонились, как паршивой овцы”. Ого, Стендаль! “Красное и черное”.
Буш сел на кровать и положил ногу на ногу.
В проем двери было видно, как Ищенко — она уже надела темное платье с вырезом — накрывает на стол. Она делала это уверенно, как хозяйка, только раз остановилась и спросила: “Где у вас майонез для салата, Генрих? Я не могу найти”. Она выставила из холодильника на стол запотевшую бутылку водки. “О господи, везет же мне! — подумал я. — Еще вечер не наступил, а меня второй раз усаживают пить”.
Ни в той, ни в другой комнате полок с книгами не было. Судя по всему, существовала еще третья комната, но, наверное, нежилая, иначе Буш повел бы меня туда. “А про белье он забыл”, — подумал я. В углу стоял фикус в кадке, а в землю вокруг растения были часто натыканы заостренные палочки.
— Это зачем же?
— Что?
— Частокол этот. — Я ткнул пальцем.
— Чтобы кошечка не ходила, — деликатно объяснил Генрих Осипович. — А то она повадилась туда ходить, проклятая.
— Вы вообще один живете? — помолчав, спросил я.
— Один. Жена умерла. Дети разъехались.
— Много детей? Он часто поморгал.
— Двое. Два сына. Совсем уже взрослые. Чужими стали.
К нам вошла Ищенко, шурша платьем.
— Мужчины соскучились?
— Очень!.. Между прочим, хорошая книга. — Я кивнул на Стендаля.
— А, “Красное и черное”? Вы тоже любите?
— Да.
— А помните, как Жюльен пришел убивать госпожу Реналь? — оживилась она. — Вы помните, он стоит с пистолетом за ее спиной и думает: “Нет, я не могу ее убить!” А потом она закуталась в шаль и стала как бы незнакома ему. Тут он выстрелил. Ах, как это психологически точно! Я шестой раз перечитываю.
— Да, да, — сказал я. — Ваша книга? — спросил я Буша.
— Я мало читаю, — чопорно ответил Генрих Осипович. Ему не нравилось, что мы так быстро нашли тему для разговора, в котором он не может принять участия.
— Я с собой привезла, — заметила Ищенко.
“Как странно! — подумал я. — Ее вызывают телеграммой, в которой сообщают о насильственной смерти мужа. Она спокойно собирает халатики, сумочки и еще берет книгу для чтения. Можно подумать: она знала о предстоящем и была готова к нему”.
— Товарищи мужчины, давайте организованно к столу, — пригласила Ищенко. — Все готово.
— Не трудите зря ногу. Опирайтесь, — предложил Буш.
Мы прошли в соседнюю комнату.
Стол был сервирован с толком: разрезанные крутые яйца были украшены петрушкой, стояла в вазочке кабачковая икра, громоздилась тяжелая фарфоровая миска с двумя ручками — с салатом. Старый фарфор, отметил я. Была не забыта селедка, обсыпанная кружочками лука. Тут же сыр, колбаса. На блюде лежала какая-то рыбка в ржавом горчичном соусе, по-моему, это была маринованная минога — деликатес даже для Прибалтики. Все это напоминало старый голландский натюрморт. “Интересно, сколько получает Буш на фабрике?” — подумал я. Ножи и вилки лежали парами на специальных стеклянных подставках, отражавших люстру под потолок, — ее зажгли, хотя еще был день. А в высоком бокале топорщились бумажные салфеточки.