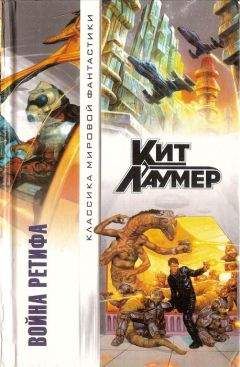— Ого! — воскликнул я. — Вы устроили целый пир! Мне просто неудобно.
— Чем богаты, тем и рады. Садитесь. — Буш энергично потер руки. — Водочки?
— Не пью, — сказал я.
— То есть как?
— Совсем не пью.
— Ни вот столечко?
— Тренер запрещает. Если можно, мне томатного соку. Я им и чокаться буду.
— Жаль, — сказала Ищенко.
— За ваш геройский поступок сегодня, — сказал Буш.
— Который привел к такому чудесному знакомству! — подхватила Ищенко.
Я скромно промолчал, только привстал, чтобы чокнуться. Буш выпил. И Клавдия Ищенко выпила. Стопку она держала, оттопырив мизинец.
— Ха-арошо! — сказал Буш, отдуваясь. — Лучшее лекарство от всех волнений жизни.
— Да уж! — сказал я. — Лечит так лечит. Было бы только что лечить.
— Вы-то молодой. У вас все еще впереди.
— Так точно. А что именно впереди?
— Всякое, — сказал Буш. Помолчал и помотал в воздухе растопыренной пятерней. Потом туманно пояснил: — Жизнь, одним словом.
— Но жизнь прекрасна и удивительна, как говорят классики! — воскликнул я, внутренне поморщившись. — Читайте классиков!
Он вздохнул, опять разлил. И опять Ищенко выпила с ним. Довольно лихо это у нее получалось: даже у Генриха Осиповича недовольно дрогнули щечки.
— Sie nehmen eine Festung nach der anderen[2], как сказал бы немец, — любезно ввернул я.
Глупо, конечно, было надеяться, что Кентавр будет выпячивать свое знание немецкого языка, но на всякий случай я вставлял немецкие фразы, где мог. Кентавр отлично владел немецким. Я тоже. Это была одна из причин, почему выбор пал на меня, а не на Ларионова: он лучше знал английский, чем немецкий.
— А что это значит? — поинтересовался Буш. Я перевел.
— Вы немецкого совсем не сечете? — спросил я.
— Откуда же? Я институтов не кончал, в инженеры вышел самоучкой, — грустно сказал Буш.
Мне вдруг стало как-то неудобно. Я ставил ловушки этому пожилому человеку и притворялся, будто у меня страшно болит нога (на самом деле она только слегка саднила). А Буш мог быть совсем ни при чем. “Но я не имею права на это чувство неловкости”, — подумал я. “Я буду очень рад, если убийца не он”, — опять подумал я. Но ведь есть же какая-то вероятность? Есть. Поэтому я и сижу здесь. Почему Буш так странно вел себя на допросе?
— Мой покойный супруг болтал по-немецки как немец, — сказала Клавдия Ищенко. — К нам приезжала делегация из ФРГ, так он им все переводил.
— А где он изучал язык?
— Нигде. Просто он жил до войны здесь, в Прибалтике.
— Здесь — в этом городе? — спросил я.
— Да. И в других местах тоже.
— Мне очень нравится Прибалтика. Вы, наверное, часто сюда с ним приезжали?
— Он не любил сюда ездить, — как-то надменно сказала Клавдия Николаевна; она уже заметно опьянела. — Он был труслив, как заяц, скуп и скучен. Он всю жизнь чего-то боялся. Во всяком случае, ту часть жизни, которую прожил со мной.
— Вот странно! Чего ж он мог бояться?
— Не знаю. — Она вдруг как-то сразу стала старше и теперь выглядела на все свои сорок лет. — Он боялся и меня. Вообще хватит о нем! Я выскочила за него, когда мне было двадцать два, а ему — четыре десятка… Тогда он казался мне настоящим мужчиной.
Буш молчал, моргал и хмурился. Интересно: как отличалась характеристика Тараса Михайловича Ищенко, данная на допросе Бушем, от того, что говорила о нем сейчас Клавдия Николаевна!
— А вы немецкий хорошо знаете? Изучали? — не очень ловко перевел разговор Буш.
— И сейчас учу в институте, — объяснил я.
— По какой же специальности будете?
— Буду-то? Инженер-энергетик.
Как раз из этого института я ушел по комсомольской путевке на работу в наш отдел. Про отца я помнил всегда, но узнал подробности его гибели, когда учился на четвертом курсе. Пепел Клааса стучал в мое сердце? Нет. Просто я понял, что должен сделать свой взнос в борьбу с фашизмом, в которой участвовал мой отец.
— Сюда на отдых?
— Не совсем, — сказал я. — Хочу оформиться, пока каникулы, матросом в сельдяную экспедицию. Мне деньги нужны: на одну стипендию не проживешь, да и одеться прилично хочется… Сами понимаете. Девочку там в кино сводить… Но, говорят, трудно устроиться.
— Устроиться — что! Надо ждать, пока визу откроют.
— Во-во!
— Значит, деньги нужны? — раздумчиво сказал Буш.
— Да, — сказал я. — Прямо задыхаюсь.
— Пошли! — сказал он, вылезая из-за стола. — Ах да, у вас же нога… Слушайте, мой сосед наверху, — он ткнул пальцем в потолок, — его фамилия Суркин, он работает в рыбном управлении. Он кое-что может. Сейчас я к нему поднимусь.
И Генрих Осипович исчез за дверью, зачем-то включив по дороге еще одну лампу — на журнальном столике.
— И так хорошо! — запротестовал я вдогонку.
— Пусть, — сказала Клавдия Ищенко, подвигая свой стул ко мне. — Какие у тебя чудесные ямочки на щеках, Карик! Просто прелесть!
— Меня зовут Боря.
— Ах, простите, у меня есть знакомый в Новосибирске — Карик. Я привыкла к нему и теперь по привычке назвала вас так.
“Наведем справочки”, — мелькнуло у меня в голове.
— Вообще-то ты похож на скандинава. Цветом волос и сложением.
— Я живу в Москве, — невпопад сказал я. И отодвинул стул, потому что вовсе не хотел, чтобы Буш смотрел на меня косо, когда вернется. Но и с Клавдией Ищенко ссориться было нельзя. “Положеньице!” — подумал я.
Когда планировалась эта операция, предполагалось, что придется иметь дело как с приезжими, так и с местными жителями, а потому студент должен быть приезжим сам. Почему именно из Москвы? Московский студент боек и общителен — это раз. Во-вторых, москвичи занимают в какой-то мере привилегированное положение — жители столицы! — и к ним относятся с большим уважением, значит, легче заводить знакомства.
— Ах, Москва! — сказала она. — Театры, концерты! Как я мечтала о жизни в столице!
— Не получилось?
— Все мой Ищенко! Искал тихой заводи, говорил: в Москве люди слишком на виду. И чего боялся?.. Ну ладно! Теперь я свободна. Как птица. Куда захочу, туда полечу! Или я уже стара? — спросила она с горечью.
— Вы прекрасно выглядите, — сказал я.
— А ты действительно ничего парень. Давай выпьем на брудершафт.
— Придет Генрих Осипович — и выпьем… Вот вы Стендаля любите, а литературу — вообще?
— Обожаю! Знаете, я скажу вам, в детстве я мечтала стать писательницей.
— А кем стали?
— Кем? Домработницей у мужа! — горько отрезала она.
И опять ясно обозначились у нее на лбу две морщины-трещинки: печать совместной девятнадцатилетней жизни с Тарасом Михайловичем Ищенко.
— “Шанель”? — спросил я: от нее шел сладковатый запах духов.
— Что?
— Вы употребляете “Шанель”?
— Ах это? Да, мне достали по знакомству один флакончик. Люблю шик!
— Дорогие духи, — заметил я.
— Плевать! Выпьем?
— Подождем все-таки Генриха Осиповича.
— Да? — сказала она капризно. — Мужская солидарность?
И встала, отошла к приемнику: стала крутить ручку настройки.
Вошел Буш, кинул быстрый взгляд сначала на нее, потом на меня и сказал:
— Странно что-то! Никого у них нет. Понятно, она сейчас гостит у родных на Смоленщине, но Суркин? Не пришел еще с работы? Уже шесть, он в это время всегда бывает дома. Очень странно, — опять повторил он.
— Шесть? — переспросил я. — Так мне пора собираться. Извините, что нарушаю компанию. Было очень хорошо. — И я встал: я хотел застать своих соседей по номеру, пока они не исчезли куда-нибудь на весь вечер.
— Ну вот еще! — Буш замахал руками. — Посидим, посидим еще! Выпьем! Ах да, вы не пьете. Клавочка, что же вы, наш гость заскучал?
— Генрих Осипович, — я слегка понизил голос, — мне, право, неудобно, у меня свидание, понимаете, я тут познакомился с одной… м-м… девушкой.
Буш уставился на меня. Я скорчил ему физиономию, которая должна была означать, что я продувная бестия. Он, по-моему, даже обрадовался.
— Вас понял. Снимаю все возражения. И вот что: с Суркиным я обязательно поговорю. Сегодня же. А вы завтра зайдете к нему на работу, вот адрес. — Он взял с серванта карандаш и стал писать на бумажке. — Слушайте, а как же вы сегодня с больной ногой на свидание пойдете, а?
Об этом я забыл. Видно, мне придется прихрамывать весь вечер: вдруг еще столкнусь с Бушем. Хотя сегодня он уже, кажется, не выберется из дому.
— Вроде лучше стало, — сказал я и сделал несколько пробных шагов по комнате, припадая на “больную” ногу. — Видите!
— Отлично, — сказал Буш. — Вы ведь спортсмен, Боря? Идемте, я вас провожу.
— Всего хорошего, Клавдия Николаевна, — попрощался я.
— Желаю удачи, — ответила она, не отрываясь от приемника.
Буш открывал двери и пропускал меня вперед. Мы остановились с ним в прихожей, не внутренней, с зеркалом, а там, где была лестница.