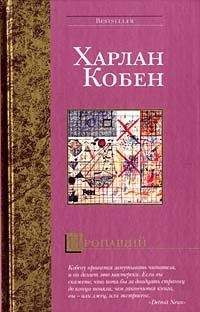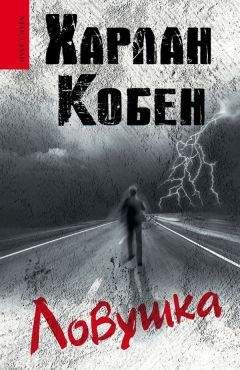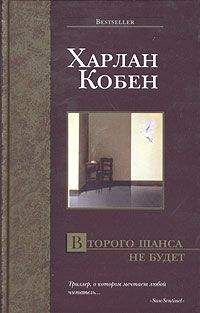но, увы, что из этого? Как сказала бы Эма, «не бери в голову». Под конец сообщаю, что сейчас прямиком еду в Институт изящных искусств Нью-Йоркского университета. Точнее, в его реставрационный центр, находящийся от «Дакоты» по другую сторону Центрального парка.
– Здорово, – отвечает Эма. – Я как раз по этому поводу и звоню.
– Слушаю.
– Я тут просматривала фэбээровские протоколы допроса свидетелей по делу о краже картин в Хаверфорде.
– И?..
– Мне показалось, поначалу следователи были убеждены, что у грабителей имелся сообщник внутри. Основным подозреваемым был ночной сторож Иэн Корнуэлл. Но из-за отсутствия доказательств эту версию пришлось отбросить.
Я говорю дочери, что мне это известно.
– Ты ведь недавно ездил к Корнуэллу и расспрашивал его?
– Да. Теперь он профессор политологии в Хаверфорде.
– Знаю. Читала про это. Что ты о нем думаешь?
Я не хочу смазывать ее мнение и задаю ей такой же вопрос.
– Я думаю, те первые следователи были правы. Ограбление никак не могло проходить по сценарию, за который держится Иэн Корнуэлл.
– Однако первым следователям не удалось ничего доказать, – возражаю я.
– Это не значит, что он не участвовал в ограблении.
– Конечно не значит, – соглашаюсь я; из динамика слышится уличный шум. – Ты где?
– Иду в метро, чтобы успеть на поезд домой.
– Давай я позвоню, и тебя отвезут.
– Нет, уж лучше я поеду так, как собралась. Слушай, Вин. Не знаю, каким образом, но нам нужно заставить Иэна Корнуэлла заговорить. Он ключевая фигура. И потом обязательно расскажи про свой разговор с реставратором.
Эма отключается. Я мысленно прокручиваю наш разговор и знаю, что улыбаюсь во весь рот. Закрываю глаза и оставшееся время полета пытаюсь вздремнуть. Не получается. Сижу как на иголках, ощущая зуд во всем теле. Причина мне известна. Я достаю мобильник и открываю свое любимое приложение. Условливаюсь о полуночном свидании с женщиной под ником «Хелена». Обычно я назначаю такие свидания пораньше, но сегодня у меня суматошный день, и освобожусь я только к полуночи.
Институт изящных искусств Нью-Йоркского университета находится на Пятой авеню, в историческом здании, называемом домом Джеймса Б. Дьюка. Оно выстроено во французском стиле и является одним из немногих уцелевших особняков миллионеров. Реликт «золотого века» Нью-Йорка. Джеймс Дьюк. Да, моя любимая альма-матер – Дьюкский университет – назван в честь его отца, бывшего соучредителем Американской табачной компании. Дьюк-старший много сделал для модернизации производства сигарет и их маркетинга. Есть такое старое изречение: «Каждое крупное состояние построено на крупном преступлении». В данном случае богатство Дьюков строилось если не на крупном преступлении, то на груде тел умерших курильщиков.
По понятным причинам институт имеет многоступенчатую систему безопасности. Я прохожу ее целиком и поднимаюсь на второй этаж, где Пьер-Эмманюэль Кло в одиночестве расхаживает по реставрационной мастерской. На нем белый лабораторный халат. На руках – латексные перчатки. Когда он поворачивается ко мне, я вижу искаженное ужасом лицо реставратора.
– Слава богу, вы здесь!
Специфический облик реставрационной мастерской создает интерьер старинного особняка, в котором она помещается, и современное оборудование, способное сделать честь любому исследовательскому центру. Здесь длинные столы, гобелены на стенах, специальное освещение, кисти всех видов и размеров, скальпели, устройства, похожие на микроскопы, инструменты из арсенала стоматологов и оборудование для проведения медицинских анализов.
– Простите меня за излишнюю драматизацию, но я думаю… – Он замолкает, не договорив.
Я не вижу картины Вермеера, где изображена девушка за вёрджинелом. На самом протяженном столе лежит всего один холст красочным слоем вниз. Его размеры примерно соответствуют размерам нашего фамильного шедевра. Рядом лежит крестообразная отвертка и несколько шурупов.
Пьер-Эмманюэль подходит к столу. Я следую за ним.
– Прежде всего, – несколько успокоившись, говорит он, – картина является подлинником. Это действительно «Девушка за вёрджинелом» Вермеера, написанная, вероятнее всего, в тысяча шестьсот пятьдесят шестом году. – В его голосе ощущается благоговейный трепет. – Вы даже не представляете, какая для меня честь находиться рядом с этим шедевром.
Я не нарушаю его благоговения, словно мы находимся на религиозной службе. Возможно, для реставратора так оно и есть. Через пару минут я смотрю на него. Пьер-Эмманюэль откашливается и продолжает:
– Теперь позвольте объяснить, почему мне столь срочно понадобилось увидеться с вами. – Он указывает на картину. – Начну с того, что вся оборотная сторона вашей картины была закрыта листом прессованного картона. Естественно, не семнадцатого века, но картонные задники – далеко не редкость. Они защищают картину от пыли и механического воздействия.
Реставратор оглядывается на меня. Я киваю, показывая, что слушаю его.
– Картон был прикручен к раме шурупами. Я осторожно их выкрутил, а затем снял и картон, чтобы повнимательнее осмотреть заднюю сторону холста. Подложка лежит вон там.
Он указывает на прямоугольник, напоминающий тонкую классную доску. На ней я вижу выцветший фамильный герб Локвудов. Пьер-Эмманюэль Кло вновь смотрит на оборотную сторону картины:
– Как видите, холст натянут на подрамник. Это тоже обычная практика. Но чтобы делать заключения о подлинности картины, холст нужно освободить от всего. Сначала нужно снять подложку. Затем – заглянуть под подрамник. Это не так-то просто сделать. Но именно там его и спрятали, причем не между подложкой и подрамником. Кто-то устроил тайник между подрамником и самим холстом.
– Что спрятали? – спрашиваю я.
– Вот этот конверт.
Рука реставратора, обтянутая перчаткой, протягивает мне конверт.
Наверное, когда-то конверт был белым, но успел пожелтеть и по цвету стал похож на деловые конверты из плотной бумаги.
– Поначалу я разволновался. Вдруг там лежит письмо исторической важности? – торопливо, сбивчиво продолжает реставратор. – Я обращаю ваше внимание: конверт не был запечатан. В противном случае я бы не посмел его вскрывать и заглядывать внутрь. Я бы просто отложил его и позвонил вам.
– Так что находилось внутри? – спрашиваю я.
Пьер-Эмманюэль подводит меня к другому столу:
– Вот это.
Я смотрю на коричневые изображения, не потерявшие, однако, своей прозрачности.
– Это пленочные негативы, – продолжает Пьер-Эмманюэль. – Не знаю, сколько им лет. Сейчас люди в большинстве своем предпочитают цифровые снимки. Что касается шурупов, их не выкручивали очень давно.
На мой дилетантский взгляд, у этих негативов странные размеры. Вы привыкли, что негативы похожи на маленькие прямоугольники. Эти крупнее и имеют идеальную квадратную форму.
Я смотрю на Пьер-Эмманюэля. У него дрожит губа.
– Думаю, вы их рассмотрели, – говорю я.
– Только три, – испуганным шепотом отвечает он. – Больше не смог выдержать.
Реставратор протягивает мне латексные перчатки. Я быстро надеваю их и включаю лампу. Осторожно держа негатив между большим и указательным пальцем, я подношу его к свету. Пьер-Эмманюэль стоит сзади, но я знаю, что он следит за выражением моего лица. Оно остается бесстрастным,